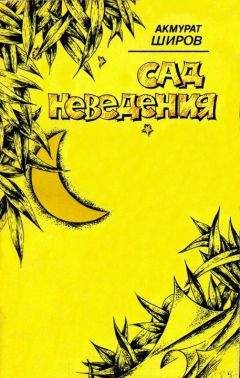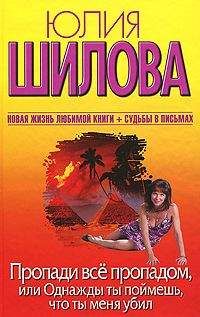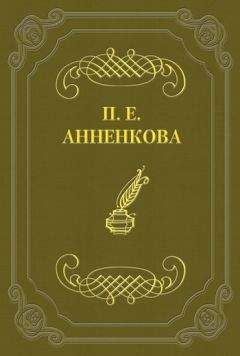— Кто?
— Да кто же еще! Сам знаешь!
— Бабушка, что ли?
— Ну да!
— Как?
— Ничего особенного.
— Расскажи.
— Просто глупости!
— Глупости тоже интересны.
Я сижу, облокотившись на подушку, и дергаю волосы на затылке. Интересно.
— Да не хочу я говорить! Просто бабье. Обо мне.
— Должно быть, и меня касается, иначе бы не скрывала.
— Оставь! Вот пристал! Дай почитать!
— Расскажи, не то разозлюсь. Предупреждаю — плохо кончится! Терпеть не могу упрямства, выдаваемого за принцип.
— На одну незначительную глупость десятки нанизываем.
— Сделай еще одну! Других не будет.
— Хорошо, уговорил. Бабушка сказала, что ты не любишь ее.
— И все?
— Нет, еще сказала, что ты стеснительный как красна девица, что такие в жизни ничего не добиваются.
— Что же, правильно.
— Да где же правильно? Какая она верующая, если людей хочет видеть дельцами!
— А может, деловыми?
— Давай спать.
— Давай поговорим.
— Ты говорил, что в твоих мучениях и заключается твоя сила, что каждый силен своим непреодолимым, что внутренняя борьба питает силой, или что-то в таком роде.
Я краснею:
— Я тогда оправдывался.
— А теперь настроение укорять себя?
— Почему-то чувствую потребность и в том и в другом.
— Ну-ну, выкручивайся!
— Больше ничего?
— Еще говорила, что я такая девушка, живая, и все такое, что могла бы найти лучшего. Черт-те что! Я так разозлилась! Я такой псих! Какое ей дело? Она даже испугалась.
Отвернулась и начала плакать, сморкаться.
— Ты хоть и разозлилась, но словам ее придала значение.
— Я знала, что ты это скажешь.
Гасим свет. Лежим в тишине. Перевалило за полночь. Где-то рядом — пугающая тьма, простор моря. Я шарю рукой, беру свой транзистор, приникаю ухом к его зеленому глазу и ищу музыку.
— Слушай… Ты как-то сказал, что взрослые редко бывают хорошими — все они ссорятся в семье…
— Думаю, что да.
— Но это же ужасно!
— Редко встречаются люди одного склада — вот почему.
— Не хочу быть взрослой…
— …а хочу быть дурой, да?
— Знаешь, мы с тобой разные!
— И с каждым годом эта разница будет усугубляться. Вначале люди видят только пол, потом человека, и — пошло самоутверждение! Да это и естественно, людям хочется следовать собственной природе, а не чужой, устаешь ведь в конце концов от самообмана.
— Ты в чем-то прав. Раньше мне нравилось все чужое, и сама хотела быть другою, родителей своих стыдилась. Теперь чувствую, как становлюсь похожей на мать, раньше заметить это было бы неприятно, но сейчас…
— Во-во!
— Ты холодный, черствый!
— А может, спокойный и трезвый?
— Нет!
— Вот видишь, ты ищешь во мне того, чего нет, а зачем? Я такой. Почему я должен быть другим?
— Таким ты мне не нравишься.
— Почему и зачем я должен кому-то нравиться?
— А зачем я тогда тебе?
— Почему ты у себя не спрашиваешь: зачем он мне?
— Слушай, давай разойдемся!
— Давай! Только отложим на завтра, ладно? Сегодня уже поздно. Я спать хочу.
— О-о, как я тебя ненавижу! Как я тебя ненавижу, если бы ты знал!
Она сидит в постели и рыдает. У меня никакого сочувствия к ней. Но дотрагиваюсь до ее волос — тонких, гибких, шелковистых. Имеют ли волосы нервы?
— Не прикасайся ко мне! Ты мне противен! Бездушный истукан! Как я могла связать с тобой свою судьбу, дура я, дура!
Разве есть в том моя вина, что я ее сейчас не люблю? Я не хочу никаких эмоций, страстей. В душе моей покой, и мне так хорошо от этого.
Она встает, зажигает свет, начинает собирать свои вещи, долго роется в ящиках, находит что-то, рассматривает:
— А что это у тебя?
Показывает на бархатный треугольник на полосатой нитке, который я до женитьбы носил на шее.
— Амулет.
— А что в нем?
— Точно не знаю, но, кажется, бумажка с заклинанием, кусочек каменной соли и какие-то ароматные зернышки.
— А почему соль, почему заклинания, почему зернышки?
Я не узнаю ее, она вдруг преобразилась.
— Каждое из них что-то значит.
— Ты носил его?
— Да.
— Интересно, зачем?
— Да это бабка моя… Когда мне исполнилось шестнадцать, сшила и наказала всегда носить на шее, чтоб оберегал меня.
— От чего?
— От злых чар нехороших женщин. Но я носил из уважения к ней.
Она хохочет.
— Чего ты смеешься?
— Смешная у тебя бабка.
— Не смей!
Она смеется.
— И ты веришь в эту чушь?
Куда делось мое спокойствие — я злюсь. Злят ее смеющиеся глаза, дразнящие властные губы, раздражают обнаженные колени. Вообще у нее какой-то властный вид.
— А что, может, и верю.
Стиснуть, поднять и бросить ее на диван, что ли? Но я почему-то стою, как пригвожденный, и смотрю на нее с ненавистью и…
Она хорошо сложена, она привлекательна.
— Что ты дрожишь, иди ко мне, — зовет она и смеется.
Теряю выдержку, двигаюсь к ней: надо бы влепить пощечину. Но руки скользят по ее плечам. Обессиленный, опускаюсь на колени. Ненависть превращается в нежность, послушание, обожание.
— Глупый, — говорит она серьезно.
— Да, — соглашаюсь, покрывая ее поцелуями.
— И мы сейчас выбросим его.
— Да, — беря ее на руки.
Где-то на шелку трав лягаются лошади, в теплых водах плещутся рыбы.
За окном светает, птички проснулись и вовсю чирикают. С набережной слышатся крики чаек. Синь утра. Пахнет глицинией.
— Давай по кофейку.
Мы сидим у распахнутых окон, пьем кофе и курим. О свежесть утра, о сладость ветра!
— Хочешь ликеру? — предлагает она.
— Чуть-чуть.
Горы в голубом тумане. Синь моря. Пыльные перья кипарисов ничего не пишут в книгу весны.
— Ты думаешь, сможешь им стать?
— Я об этом не думаю. Меня интересует не результат, а сам процесс работы.
— Ты думаешь, это сможешь делать не хуже?
— Не думал — не взялся бы.
— Хочешь, дам тебе добрый совет, только не сердись: брось ты это, не обманывай себя!
— Может, лучше жить опьяненным таким обманом, чем трезвой обыденностью?
Сказал это и подумал: противоречу себе, так быстро успело измениться настроение, так недолго пробыл я в праздности.
Я люблю думать. Почему человека ценят не по этой способности? В этом смысле я считаю себя выше многих, хотя те многие вряд ли считают так. Мысли — черви? Это удовольствие, чувствовать, как они разъедают. Не хочу быть канатоходцем. Нет, надо научиться балансировать!
Утро в разгаре. Ложимся спать. Весь мир залит ярким светом. Снится сон. Странный. А разве сон может быть другим?
На пляже находим кем-то оставленную сумку.
— Давай унесем с собой! — говорит она.
Я ее не узнаю. Я медленно поворачиваюсь к ней. Она стоит на двух ногах. Ноги голые до бикини. Почему-то я похож на хищника перед прыжком. Она настораживается и слабо, теперь уже по инерции, повторяет:
— Давай унесем…
Я теряю к ней интерес, встаю, поднимаю сумку и кричу:
— Эй, кто потерял?
Женщина, стоявшая поодаль, истерично ринулась Ј мою сторону:
— Моя!
Но несколько парней в полосатых майках сбивают ее с ног и устремляются в бешеном беге ко мне. Один из них выделяется и оставляет других в пыли полуденной жары. Вырывает у меня сумку и, не замедляя бега, выворачивает ее. Из сумки вываливаются сальные штаны. В штанах карманы. Проверив их, парень ничего не находит и равнодушно бросает сумку вбок. И все, как жеребцы, поворачивают обратно и удаляются мелким блатным шагом.
Я поднимаю штаны и роюсь в карманах. В карманах другие карманы. Я расстегиваю их и там обнаруживаю три карманчика, в каждом из них по несколько туго свернутых червонцев. Разглаживаю деньги и высоко поднимаю над головой:
— Во-от! Тут деньги! — кричу.
Женщина, ставшая уже равнодушной, снова истерично визжит:
— Мои!
Но тройка парней снова сбивает ее с ног. Я бегу в сторону сарайчиков, петляю между заборами, пытаюсь уйти от преследователей, но ясно, что они поймают меня и отберут деньги.
Я в тупике. Прижат к стене.
— Деньги!
Разжимаю кулаки. Скомканные потные бумажки падают на песок. Один из парней брезгливо переворачивает их пальцами ноги. На песке валяются лотерейные билеты.
— Где деньги, гнида?!
Из глаз сыплются искры. Как бы голову мою не прилепили к стене, как кизяк. Трещит подбородок. Сгибаюсь от удара в живот. В конце белого тупика розовым пятном растекается жена.
— Избивают!!!
Пляж почти безлюден. Вмешаться некому. И все же парни оставляют меня и удаляются блатным шажком.
— Чего орешь, дура! — сквозь зубы цедит один из них, поравнявшись с ней.
Выплюнув кровь, подымаю билеты. Тираж был недавно. Помню, в сегодняшней газете таблица.
— Где газета?