Бурый космач, жарко дыша, успел несколько раз лизнуть морду мохнатки, и у той от каждого прикосновения горячего языка замирало сердце, и занесенная для удара лапа бессильно повисала в воздухе.
Медведица бежала по лесному бурелому до тех пор, пока не выскочила на поляну. Она и в темноте разглядела вспаханное черное поле с желтеющими пряслами снопов. Резко остановившись, юзом проехала метра два по лужайке, оставив четыре глубокие борозды в дерне. Продолжительные осенние дожди вымыли корни травянистых растений, расквасили глину.
Остановились и опьяненные течкой самки звери. Медведица втягивала ноздрями воздух. Ее резанул горьковатый запах дыма, доносившийся из близлежащей деревни, и что-то смутное ожило вдруг в ее памяти.
У зверей память на обиды на всю жизнь. И, возможно, мохнатка вспомнила, что пережила еще совсем маленькой, когда с матерью-медведицей приходила на это поле лакомиться сладким молочным овсом.
Тихими ночами счастливая мать приводила на поле четырех своих медвежат, и мишки, ухватив в пасть метелки овса, сосали их, поуркивая от удовольствия.
Однажды под утро в конце поля мелькнула тень. От медведицы это не ускользнуло, н она поднялась на задние лапы, защищая своих детенышей.
Неожиданно грянул выстрел, нарушив покой и тишину. Грозно рявкнув, медведица опрокинулась на землю. А напуганные малыши со всех ног бросились в лес, устилая тропу съеденным овсом.
К утру трое из четырех медвежат собрались в вершине ручья, где они жировали. Куда делся четвертый медвежонок они не знали, да им, собственно, и безразлично это было. А вот мать они ждали с нетерпением, так как голод давал о себе знать.
Появление еле тащившейся медведицы привело их в восторг, и вся троица наперегонки кинулась к ней. Медвежатам было невдомек, каких усилий стоила раненому зверю эта встреча. Облизнув каждого и дав по легкому шлепку, мать, с трудом передвигаясь, повела своих детенышей с болота в бор.
Здесь под раскидистой сосной большой серой горкой высился муравейник. Муравьи копошились в куче, перетаскивая еловые и сосновые иголки, тоненькие сучки и всяких козявок.
Постанывая от боли, медведица сильной когтистой лапой разгребла муравейник, на дне которого лежали круглые белые яйца поменьше горошин. Медвежата с жадностью набросились на них.
Запустив лапу в муравейник, они, чавкая, слизывали с нее яйца вместе с муравьями, забыв обо всем на свете. Окинув их мутнеющим взглядом, медведица повернула снова к болоту, на краю которого чернело темное окно топи, наполненное грязной жижей. В этот бачажок она и плюхнулась, чтобы хоть немного приглушить боль от огнестрельной раны.
Неожиданно из-за толстого дерева высунулась голова крупного медведя, который шел по следу раненой медведицы. Взгляд бурого космача, не предвещавший ничего хорошего, вначале остановился на черном медвежонке с белой грудкой, а затем устремился к лежащей в бочажке медведице.
Раньше, увидев злобного пришельца на таком расстоянии от детенышей, мать непременно задала бы ему хорошую трепку. Сейчас же она не в силах была заступиться за медвежат, и чутье подсказало это медведю.
В несколько мощных прыжков он достиг муравейника и сильным ударом лапы размозжил череп белогрудому медвежонку. А две маленькие мохнатки с ловкостью кошек заскочили на сосну и это спасло им жизнь.
Со страхом глядели они, как свирепый космач разрывал медвежонка на куски. А насытившись, он принялся обдирать когтями кору на сосне, где укрылись мохнатки. Но медведь не удостоил их вниманием, сейчас, когда он утолил свой голод, они его мало интересовали.
Лишь когда он удалился, медвежата слезли на землю и, жалобно пища, подошли к матери. Но напрасно звали они ее покинуть это страшное место. Медведица не двигалась, она лишь лизала своих детенышей с тоской и болью в глазах.
На вторую ночь бурый космач появился вновь. Но медвежата вовремя заметили его и стремглав заскочили на толстую ель. Лезть за ними на дерево медведь не решился, понимая, что сучья не выдержат его мощную тушу.
Однако и без поживы уходить он не собирался. Прохаживаясь взад-вперед, он приглядывался к неподвижно лежавшей в бочажке медведице. И наконец, решившись, стал потихоньку подкрадываться к ней.
Остановил его грозный рык, который донесся из лесу. Медведица — откуда только у нее взялись силы — откликнулась на него. Бурый космач, не ожидавший такого поворота, растерялся. Минуту-другую он потоптался на месте, а затем трусливо побежал прочь.
Из лесной чащи выскочил могучий черный медведь с белым пятном на груди. Подбежав к слабеющей медведице, он стал лизать ее морду. В тусклых зрачках еще раз вспыхнул лучик жизни и погас навсегда.
Удивленные медвежата соскочили вниз и осторожно подошли к матери. Медведь обнюхал малышей, а потом, подталкивая лапами, повел их с собой.
Около сосны с разрытым муравейником он остановился. Шерсть на загривке у него встала дыбом, глаза налились кровью. Медведь в ярости ободрал кору сосны на полметра выше, чем бурый космач, и только после этого немного успокоился.
Отведя медвежат в сторону, черный великан подхватил их передними лапами и усадил на лохматую ель. А сам скрылся в лесу.
Вернулся нескоро, со следами крови на белой груди. Ловко снял с дерева медвежат и повел их прочь из этих мест.
Он заменил им мать. Терпел их шалости. Приносил пищу: зайцев, глухарей, а однажды и росомаху. Водил на ягодные места, где медвежата вволю ели малину, чернику, морошку, бруснику, рябину, черемуху, выкапывали сладкие корни.
Медведь научил их плавать, ловить рыбу, охотиться. Малыши росли под его надежной защитой. Зиму провели в одной берлоге. А весной тощие и голодные разбрелись в поисках пищи.
Больше молодая медведица не встречалась ни с бурой сестрицей, ни с черным отцом. Лето паслась одна, а осенью за ней погнались самцы.
То ли от неприятного воспоминания, то ли от дыма, попавшего ей в нос, мохнатка фыркнула и повернула обратно в лес. Бурый по-прежнему опекал самку. Горячий язык вновь коснулся ее морды, и волна приятной истомы пробежала по телу медведицы. Она задрожала и, не отбиваясь, остановилась.
Стариковской походкой Трофимыч семенит по лесной, тропке. Охотничий путик вьется краем болота, то взбираясь на самую веретью[2] бора с гладкоствольными соснами, то уводит в непролазную чащу осинника и бурелома.
Мягко светит майское солнце; лучи его, пробежав по верхушкам деревьев, опускаются вниз и отогревают промерзшую за долгую холодную зиму землю. В лесных низинах еще лежат обширные пласты снега. А над водянистым болотом стелется туман и терпко пахнет смолой — извечным весенним запахом.
Поют и щебечут птицы. Пережив суровую зиму, они радуются наступающему теплу, свету и солнцу.
У Трофимыча чудесное настроение. За спиной старика в такт шагам покачивается добытый в силки увесистый глухарь. О такой добыче и мечтал старый охотник, лежа на кровати во время недуга. И вот мечта осуществилась.
Трофимычу здорово повезло. Внук Андрей за всю весну не добыл и рябчика. И перед отъездом сказал деду:
— Что же, дедусь, придется тебе запустить силки-то, раз я улетаю в город учиться на тракториста.
Дул свежий устойчивый восточный ветер, обдавая морщинистое лицо старика. Деревья глухо шумели, постукивая голыми ветками. Жадно вдыхая пахнущий сосновой серой воздух, охотник поодвигался от силка к силку, одобрительно оглядывая их: «Правильно поставлены силки внуком».
Вспомнил Трофимыч, как они с другом Аркадием, еще будучи учениками начальной школы, каждую весну и осень ловили тетеру в силки. Не было случая, чтоб возвращались без добычи. Бегали в лес утром до занятий в школе и по две-три тетеры ежедневно приносили домой. Тетеревов и глухарей в то время было больше, чем теперь ворон. А лес-то какой стоял! Сосны как свечки.
Трофимыч обвел взглядом оголенные пни вырубки, и сердце его сжалось от боли. Раньше так не рубили, чтоб подчистую. Бесхозяйственно стали жить люди.
Зачем, скажи на милость, потребовалась через все болото канава? Что толку в сухом болоте? Раньше-то на этом месте сельчане одной морошки по бочке заготовляли. А черники, голубики, клюквы столько было! Опять же по островам — грибы. И деревня — вот она рядом, хоть дважды в день за деликатесами ходи. Но сейчас сухо летом на болоте, и ягоды исчезли. Не стало поблизости и дичи.
Утопая сапогами во влажном, мягком мхе, Трофимыч бесшумно подошел к разлившемуся ручью Гремучему, оправдывавшему свое название музыкой снежного водопада.
— Ишь ты как разлился! Разуваться надобно, — недовольно бормотал себе под нос старик, спускаясь с пригорка. — Сапоги хоть и резиновые, да голяшками зачерпну — глубоковато.

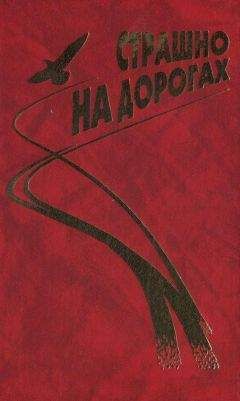
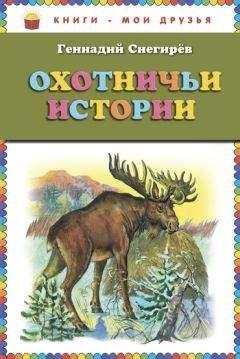
![Геннадий Аксенов - Бажоный [Повесть]](https://cdn.my-library.info/books/114500/114500.jpg)
