Долго сидел Фалалей, вспоминая годы охоты, пока взгляд его ненароком не упал на висевший на ветке патронташ. «Картечь, она сразу зашибет, — не глядя, машинально вставил патрон в ствол ружья охотник, — все ей, бедолаге, меньше маяться».
— Прости, Дамка!
Фалалей прислонил ружье к дереву и, прощаясь в последний раз, обхватил собаку за шею. Выкатившаяся из глаз слеза покатилась по его лицу.
Чувствуя, что еще немного и он не выдержит, старик решительно смахнул слезу, оттолкнул собаку и, схватив ружье, выстрелил. Почти одновременно с громом выстрела по лесу прокатился пронзительный визг. А когда пороховой дым рассеялся, стало видно крутившуюся на одном месте Дамку. Голова ее, залитая кровью, была ужасной, и охотника охватил страх, какого он не испытывал и в схватке с медведем.
Фалалей понимал, что обязан избавить от мук Дамку. А значит надо опять заряжать ружье и стрелять, а этого сделать он не в состоянии. Кляня себя, старик бросился прочь, забыв лопату. «Чтоб никогда мне не видеть этого проклятого места, никогда! — исступленно твердил Фалалей. — Прости меня, Дамка, прости!..».
До деревни оставалось около километра, когда резко рванул ветер, хмурые тучи налились свинцом и грянул дождь, точно наказание божье охотнику за грехи.
Промокший до нитки и злой пришел мужик домой и набросился на Лукерью:
— Все ты, карга старая! Ты виновата! Извел я Дамку, дурья голова… А за что? За то, что она не раз от верной смерти спасала! Это ты меня поедом ела, осокой ежедневно резала, подзуживая да уговаривая, чтобы убил. Теперь довольна, змея подколодная?! — рявкнул он.
— Бог с тобой, Фалалеюшка, бог с тобой, — повторяла перепуганная старуха.
— Брагу давай, карга старая, — не унимался старик, — да пошевеливайся!
Чувствуя свою вину, Лукерья не артачилась: быстро подняла из подвала четверть браги. Фалалей долго и жадно пил мутную сладковатую холодную жидкость, не обращая внимания на закусь. А напившись, старик плакал и ругал себя:
— Изверг я, изувер несчастный! Пожалел кусок старой собаке.
Потом, пошатываясь, вышел во двор, пытался поговорить с посаженной на цепь Домной.
— Не заменить тебе своей матери. Где тебе до нее…
Но Домна, оскалив хищные зубы, зарычала. Она, как и Дамка, не любила пьяных.
Все же алкоголь свалил Фалалея. Но и во сне он кричал:
— Дамка, Дамка, ко мне!
Утром его разбудил голос Лукерьи:
— Ты только посмотри, Фалалеюшка, посмотри… Ведь Дамка-то приползла!
— Что мелешь, старая? Какая Дамка? — не понял поначалу муж. Потом сообразил. — Дамка, говоришь?
Сгорая от нетерпения, Фалалей в кальсонах выскочил на улицу и увидел Дамку. Глаз у нее был выбит, правое ухо прострелено. Домна старательно зализывала ее раны.
— Слышу — под утро-то Домна воет… Дай, думаю, взгляну, успокою, — объяснила Лукерья. — Вышла, гляжу, а это Дамка домой ползет. Я ведь, Фалалеюшка, тоже расстроилась, всю ночь век не сомкнула: за что, думаю, такую умную собаку загубили? Я во всем виновата, я кормить отказывалась… А сейчас скажу — хоть меня убей, Фалалеюшка, а Дамку добивать не дам…
— Цыц, курица! Замолкни, старая! Раскудахталась. Я, чай, не дурак стрелять дважды. Оказывается, я вчера патроны перепутал: мелкой дробью стрелял. Ну и ладно, авось поправится.
— Я уж, Фалалеюшка, молока Дамке давала, — продолжала стрекотать старуха.
— Да заткнись ты, крапива жгучая! — зло зыркнул глазами на нее Фалалей. — Скорей шесты тащи в лодку, да денег не забудь взять. В село Вожгору Дамку повезем. Может, врачи вылечат…
Вскоре лодка закачалась на волнах. Семнадцать километров на шестах вверх по порожистой Мезени везли Фалалей и Лукерья раненную собаку. Ветеринар, осмотрев Дамку, обработал раны и наложил повязку. Вскоре ухо у собаки заросло. Правда, глаз спасти так и не удалось.
Когда я подрос маленько, одним из первых моих открытий было то, что у веселого деда Егорши, сапожника нашей деревни, нет ноги. В праздники дед с важностью пристегивал тяжелую металлическую ногу, расправлял сухую куриную грудь и пронзительным скрипом протеза поднимал сельчан на гулянье.
Скрипел он обычно до тех пор, пока не обойдет все дома и не испробует хмельного у каждого гостеприимного хозяина. После засыпал где-нибудь около бани или гумна — там, где сон доймет.
Выпить Егорша был мастак, как и сапожничать. В смысле починки ботинок и сапог с ним не мог сравниться даже мастер с городу, как говаривали в деревне. Приносили деду такую рвань, что и смотреть страшно. Возьмет Егорша обутку, оглядит внимательно и скажет: «Да, глазам-то пужливо, а руки сделают». И делал. Да так, что ботинки-развалюхи еще долго шлепали по деревенским улицам.
Однажды после праздника повстречал я Егоршу и спросил:
— Дедо, а где у тебя вторая нога?
Кисло улыбнувшись, Егорша сел на сосновую чурку и дрожащими пальцами стал выскребать табак-самосад из плоской ярко-красной баночки. Скрутив цигарку и жадно затянувшись, выпустил густую струю дыма.
— Хоть ты, паря, кажется, с мозгой, но больно уж мал. Боюсь, что меня не так поймешь. Вот подрастешь, тогда я перед тобой — как на духу….
Сказав это, дед протянул мне свою мозолистую руку. Я чуть не задохнулся от счастья. А глазами зыркал по сторонам, не идет ли кто по деревне. Очень хотелось, чтоб видели ребята, как привечает меня Егорша. А дед, опустив голову, молчал, с шумом втягивая дымок цигарки.
…День был теплый. Разложив сапожный инструмент во дворе, Егорша работал до сумерек.
— Что бы это значило? Сегодня Егор Иванович целый день обутку клепал, а деньги за работу брать наотрез отказался, — удивилась соседка Авдотья.
— Моим ребятам тоже кое-что починил, а рубль так и не взял. Не надо, говорит, купи-ко лучше детишкам конфет, пусть полакомятся. А то вон кино из району привезли… — поддержала ее многодетная вдова Маланья.
Егоршу и в самом деле словно подменили. Перестал и в праздники по деревне бродяжить. И домой возвращался трезвым. Даже жена его, бабка Степа, заметив резкую перемену в поведении мужа, переполошилась.
— Уж не заболел ли ты, Егорушка? Коли занемог, давай Феклу позову, она от всех присух травками вылечивает. А то фершала с сельсовету. Вы ж с ним друзья. Хороший, умный дохтур-то, — убеждала она Егоршу.
Но тот только махал рукой: мол, не приставай с пустяками.
И все же, когда медик перед страдой обходил дома, чтоб подлечить больных, бабка Степа не удержалась — рассказала про дедову перемену. В ответ услышала:
— Не волнуйся, Степанида Всеволодовна, это бывает. Живет, живет человек, а станет время к старости подходить — и задумается он, правильно ли жил до сих пор.
…А годы шли. Немало ершей, пескарей и щук переловили мы, пацаны, с дедом Егоршей. Я уж и школу-семилетку закончил, и в колхозе за мужика работал, но пьяным своего соседа больше не видел.
Когда исполнилось мне девятнадцать, пришла повестка из райвоенкомата о призыве на армейскую службу. Собрали мы по старинной традиции всех родных и друзей на отвальную. Пришли и дед Егорша с бабкой Степанидой.
Моя мать, Матрена Панкратьевна, произнесла напутственное слово. И все дружно пожелали мне хорошо служить, защищать нашу Родину, а значит, и нашу милую таежную деревеньку Лебское.
Я чувствовал себя именинником. После фужера шампанского вспомнилось давнишнее Егоршино обещание. «Уеду, — подумал, — завтра утром и не узнаю, как Егор Иванович ногу потерял».
Встал я и принародно напомнил ему о нашем разговоре, наивно полагая, что где как не в армии и не на войне можно оказаться инвалидом. Гости, развязавшие было языки после тоста, притихли.
Егор Иванович, уже несколько лет не принимавший спиртного, выпил стопку. Очень уж разволновался старик.
— Давно это было, — начал он. — Третье лето страдало Лешуконье от неурожая. Ячмень не доходил — одна мякина. Картофель также мелкий родился. Продуктов хватило до рождества, а там хоть с голоду помирай. Мужики на зиму кто куда на заработки разошлись. Одни охотой промышляли, другие лес купцу рубили. Мой старший брат Петро на заводе Михельсона в самой Москве робил. Однажды отец и говорит мне: «Чуешь, сынок, что я надумал. Поди-ко и ты в Москву. Петька тебя устроит на работу, прокормишься. А подфартит — так и нам с маткой деньгу пошлете».
Больше месяца я до Москвы добирался. Как Ломоносов, с рыбным обозом пешком до белокаменной шел. И брата в Москве, конечно, отыскал. Но не повезло нам. Только устроился на работу, как Петро за участие в забастовке с завода выгнали.
Как-то вечером прихожу с работы. Руки гудят, ноги дрожат от напряжения: целый день на пятый этаж кирпичи таскал. Петро сидит дома расстроенный. Пойдем, говорит, братуха, в кабак, хозяин при расчете выдал три рубля. Собрался я с ним, а сам боюсь. Хоть ростом и вымахал, а хмельного у меня во рту отродясь не бывало. Но любопытство посмотреть кабак взяло верх — согласился.

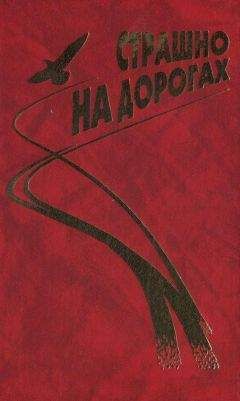
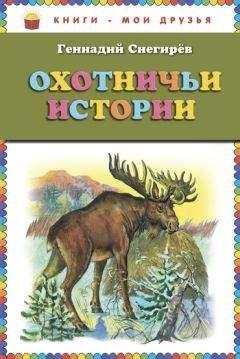
![Геннадий Аксенов - Бажоный [Повесть]](https://cdn.my-library.info/books/114500/114500.jpg)
