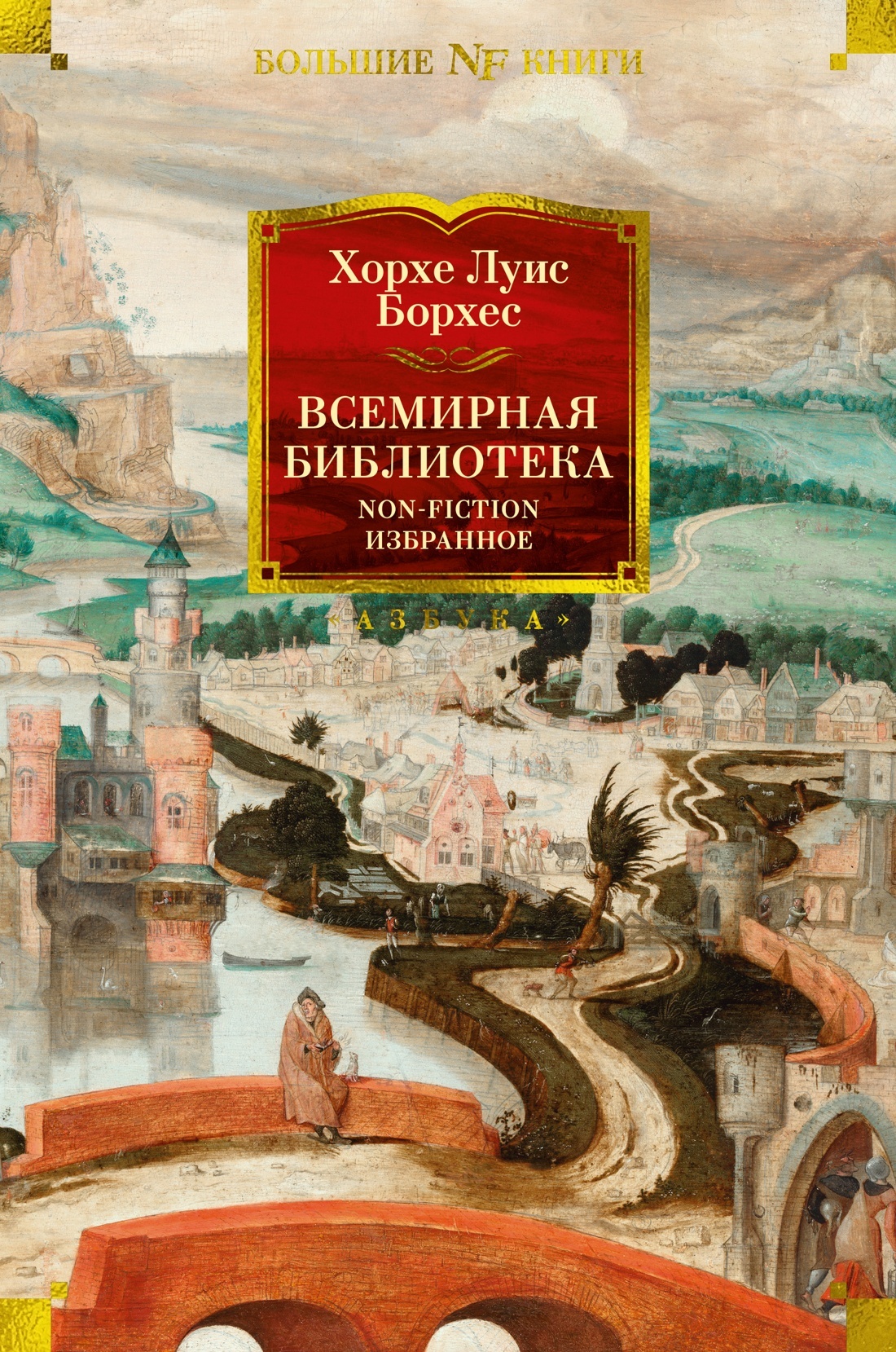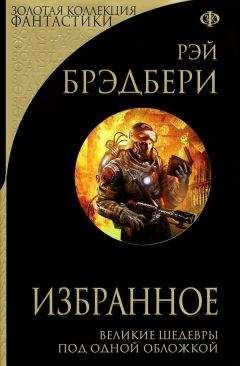своей книге Уитмен вспоминает средневековые полотна с множеством персонажей; некоторые из них прославлены и изображены с нимбами. Уитмен объявляет, что намерен написать бесконечный гобелен, населенный бесконечным числом персонажей, и у каждого будет собственный нимб. Как возможно совершить такой подвиг? Невероятно, но Уитмену это удалось.
Ему, как и Байрону, был нужен герой, но герой особенный, символизирующий многоликую демократию, герой бесконечный и вездесущий, как рассеянный по миру бог пантеистов. Уитмен измыслил странное создание, непонятное нам до конца, и дал ему имя Уолт Уитмен. Это создание имеет двойственную природу: с одной стороны, это скромный журналист Уолтер Уитмен, выходец с Лонг-Айленда, которого на Манхэттене походя приветствует куда-то спешащий приятель, и в то же время он тот, кем этот первый хотел быть и не стал, – человек приключений и любви, беззаботный легкомысленный жизнелюб, путешествующий по Америке. Итак, на некоторых страницах своей книги Уолт Уитмен родился на Лонг-Айленде, а на других он южанин. В одном из самых правдивых отрывков «Песни о себе» он пересказывает героический эпизод мексиканской войны и заверяет, что услышал эту историю в Техасе, где на самом деле никогда не бывал. А еще он говорит, что был свидетелем казни аболициониста Джона Брауна. Подобные примеры можно множить и множить; почти нет страниц, где не смешивались бы Уитмен с его обычной биографией и тот, кем Уитмен хотел бы стать и теперь стал в воображении и любви человеческих поколений.
Уитмен изначально был многолик; автор решил сделать его бесконечным, добавив третьего персонажа – читателя, переменчивого и вечно нового читателя. Читателю всегда приходится идентифицировать себя с героем произведения: читать «Макбета» – значит в какой-то степени быть Макбетом. Насколько нам известно, Уолт Уитмен первым использовал такую кратковременную идентификацию до конца, до нескончаемого и неясного конца. В начале Уитмен прибегал к диалогу: читатель говорит с поэтом, спрашивает, чтó он слышит, чтó он видит, или делится сожалением о том, что не может познакомиться с Уитменом и полюбить его. Уитмен отвечает на его вопросы:
Вижу, как гаучо, несравненный наездник, скачет по равнине с лассо на руке,Вижу, как гонятся по пампасам за диким скотом, добывая шкуры [609].
И еще:
Это поистине мысли всех людей, во все времена, во всех странах, они родились не только во мне,Если они не твои, а только мои, они ничто или почти ничто,Если они не загадка и не разгадка загадки, они ничто,Если они не столь же близки мне, сколь далеки от меня, они ничто.Это трава, что повсюду растет, где есть земля и вода,Это воздух, для всех одинаковый, омывающий шар земной [610].
Нет числа поэтам, с разным успехом пробовавшим подражать интонации Уитмена: Сэндберг, Ли Мастерс, Маяковский, Неруда… Никто, за исключением автора перекрученных «Поминок по Финнегану», которые совершенно невозможно читать, не сумел заново сотворить многоликого героя. Уитмен, повторяю, – это тот скромный человек, который жил с 1819 по 1892 год, и тот, кем он хотел стать, но не стал, а еще каждый из нас и каждый из будущих обитателей этой планеты.
Мое предположение о троичности Уитмена, героя этой эпопеи, никоим образом не опровергает и даже не преуменьшает волшебства написанных страниц. И даже наоборот, приглашает ими насладиться. Замысел двойного, тройного и – в пределе – бесконечного героя мог оказаться амбицией литератора, попросту хитроумного лицемера; успешное выполнение такого замысла – это никем не превзойденный подвиг Уитмена. Во время одной дискуссии в кафе о происхождении искусства, о возможном влиянии образования, расы и окружающей среды художник Уистлер высказался кратко: «Art happens» («Искусство случается»), что равносильно признанию эстетического факта, необъяснимого по своей сути. Так понимали дело евреи, говорившие о Духе, и греки, призывавшие музу.
Что касается моего перевода… Поль Валери писал, что никто не знает недостатки своего творения так глубоко, как его создатель; несмотря на коммерческое суеверие, что последний переводчик всегда оставляет позади своих предшественников, я не осмелюсь утверждать, что мой перевод в чем-то превосходит другие. Я вовсе не стремился их игнорировать: с немалой пользой я изучил перевод Франсиско Александера (Кито, 1956), он и сейчас остается для меня наилучшим, хотя порою Александер и впадает в литературность, – мы могли бы объяснить это почтительностью или же слишком частым обращением к англо-испанскому словарю.
Язык Уитмена – это современный язык; пройдут сотни лет, прежде чем он станет мертвым языком. И тогда мы сможем переводить и воссоздавать Уитмена с полной свободой, как поступил Хауреги с «Farsalia», как поступили Чапмен, Поуп и Лоуренс с «Одиссеей». А пока что я не вижу иной возможности, кроме версий наподобие моей, то есть колебаниями между собственной интерпретацией и суровым самоограничением.
Меня утешает одно. Я вспоминаю, как много лет назад был на постановке «Макбета»: перевод оставлял желать лучшего, как и актерская игра, как и размалеванные подмостки, и все-таки я вышел на улицу, раздавленный трагической страстью. Шекспир проложил себе дорогу; Уитмен тоже справится.
1969
Эммануил Сведенборг
«Мистические труды»
Замечательнейшим человеком, когда-либо жившим на земле, Вольтер назвал другого известного скандинава, Карла XII Шведского. Превосходная степень здесь не вполне оправданна, поскольку не убеждает, а лишь провоцирует бесплодную полемику; и потому я бы рискнул применить определение Вольтера не к Карлу XII, воинственному завоевателю, каких много, а к Эммануилу Сведенборгу – загадочнейшему из его подданных.
В знаменитой лекции 1845 года Ральф Уолдо Эмерсон именует Сведенборга типическим мистиком. Слово вполне корректное, и все же оно рисует нам образ отшельника, который инстинктивно бежит от обстоятельств и суеты, называемых – я никогда не пойму почему – действительностью. Никто не соответствует этому образу меньше, чем Эммануил Сведенборг – осознанно и неустанно путешествовавший по этому и другим мирам. Никто не принимал жизнь в таком многообразии, никто не исследовал ее с таким пылом, с такой интеллектуальной страстью, с таким нетерпеливым рвением. Никто не отличается от монаха сильнее, нежели этот неутомимый скандинав, забравшийся намного дальше Эриха Рыжего.
Подобно Будде, Сведенборг отвергал аскетизм, обедняющий и порой губящий человека. На небе он увидел отшельника, который решил заслужить рай и провел смертную жизнь, отгородившись от всех в пустыне. Достигнув цели, этот счастливчик обнаружил, что не может ни общаться с ангелами, ни постигнуть сложность рая. В конце концов ему даровали возможность сотворить для себя образ пустыни. В ней он и живет, смиряясь и молясь, как на земле, но при этом без надежды когда-либо попасть в рай.
Его отец Еспер Сведберг был выдающимся лютеранским священником. В нем сочетались поистине редкие черты: рвение и терпимость. Эммануил родился в Стокгольме в начале 1688 года. С самого детства его занимали мысли о Боге, он охотно беседовал с клириками, часто