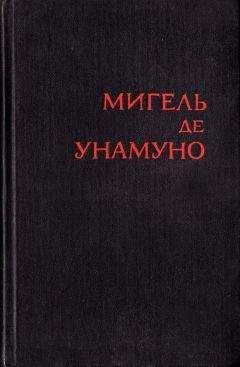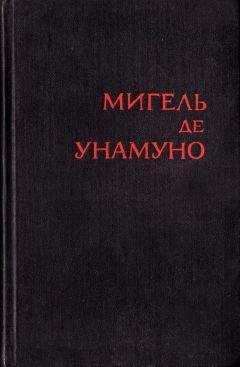– Точнее не выразишь! – воскликнул депутат.
– А я вам скажу, сын мой, – протянул Федерико, выгадывая время на ответ. – Вы должны знать, чем замечательно таинство исповеди в нашей благомудрой матери церкви…
– Обычная дикость, – прервал его чиновник.
– Почему же дикость? Напротив, весьма мудрое учреждение. Исповедь дает возможность грешить безбоязненно, поскольку любой согрешивший заранее знает, что грех ему будет прощен. Разве не так, Хоакин?
– Понятно, если человек не покается, то и не…
– Да, да, сын мой, человек покается, затем согрешит, снова покается и снова согрешит, а так как он знает, что, согрешив, покается и, покаявшись, снова согрешит, то вот он и начинает каяться и грешить одновременно. Правильно?
– Человеческая душа – потемки, – наставительно произнес Леон Гомес.
– Сделай милость, не говори пошлости! – перебил его Федерико.
– Почему же я говорю пошлости?
– Всякая философическая сентенция, всякая аксиома, всякое напыщенное обобщение, да еще облеченное в форму афоризма, – пошлость.
– А что же в таком случае представляет собой сама философия?
– Нет никакой философии, кроме той, что мы тут разводим…
– И заключается она в перемывании косточек своего ближнего.
– Правильно. Зато ничто другое и не идет ему так на пользу.
Когда пришла пора расходиться, Федерико подошел к Хоакину и спросил, не собирается ли тот домой, потому что он с удовольствием бы его проводил хотя бы часть пути. Когда же Хоакин ответил, что ему еще нужно нанести визит тут, совсем неподалеку, Федерико сказал:
– Понятно, ты просто хочешь отделаться от меня, Хочешь остаться один. Понимаю тебя.
– Что же тут понятного?
– Одиночество – это лучшее, что может быть на свете. Но когда одиночество станет тебе невмоготу, приходи ко мне. Никто не сумеет отвлечь тебя от твоих горестей лучше меня.
– А как же собственные твои горести? – поддел его Хоакин.
– Вздор! Кого они могут интересовать?…
И они расстались.
Бродил по городу один бедный-пребедный человек, родом из Арагона, отец пятерых детей; зарабатывал он на жизнь чем мог, когда – перепиской, когда – чем придется. Бедняга частенько обращался к своим друзьям и знакомым – если, конечно, предположить, что таковые могут быть у подобного человека, – выклянчивая у них под различными предлогами два-три дуро в долг. Или, что было самое грустное, досылал кого-нибудь из своих сыновей, а то и жену с просительными записочками. Хоакин иной раз оказывал ему помощь, чаще всего тогда когда его просили осмотреть кого-либо из заболевших членов этого семейства. Хоакин получал какое-то особенное удовольствие, оказывая помощь этому несчастному человеку. Он угадывал в нем жертву человеческой несправедливости.
Однажды он заговорил о нем с Авелем.
– Да, я знаю его, – ответил Авель, – некоторое время я даже давал ему работу. Но ведь он лодырь, бездельник. Под предлогом того, что ему необходимо отвлечься от своих горестей, он ежедневно шляется в кафе, хотя дома в это время нет ни крошки. Он не может отказать себе даже в ежедневной коробочке сигар. Горести свои он превращает в сигарный дым и выпускает кольцами к потолку.
– Это еще ничего не значит, Авель. На это дело нужно взглянуть поглубже, вникнуть в самую суть…
– Все это одни красивые слова. Надоело постоянное его вранье и кривлянье – берет деньги и непременно добавит: «При первом же удобном случае верну…» Уж лучше просить милостыню. Это куда честнее и благороднее. Прошлый раз он попросил у меня три дуро в долг; я дал ему три песеты и сказал: «Отдавать не нужно!» Нет, что ни говори, а он просто бездельник!
– Но разве он виноват?
– Ну, начинается: в чем виноват да его ли это вина…
– Вот именно. Кто первопричина всякой вины?
– Лучше бросим этот разговор. Если хочешь помогать ему – помогай, я не возражаю. Да, пожалуй, я и сам при случае дам ему денег.
– Это-то я знаю, ибо внутренне ты…
– Что мы такое внутренне – говорить не будем. Я художник и мало интересуюсь тем, что там у человека внутри. Более того, скажу тебе прямо, я убежден в том, что внешность любого человека – это точный сколок того, что человек являет собой внутренне.
– Ну еще бы! Давно известно, что для тебя человек – всего лишь натура, модель…
– Тебе кажется, этого мало? А для тебя каждый человек – всего лишь клинический случай. Тебе приходится изучать, выслушивать, выстукивать людей, пытаясь проникнуть к ним внутрь.
– Незавидное занятие…
– Почему?
– Потому что, привыкнув разбираться во внутренней сути других людей, понемногу начинаешь прислушиваться к самому себе, ощупывать, изучать себя…
– Рассматривай это как преимущество. По мне, так и простого зеркала достаточно…
– А ты и правда смотришься иногда в зеркало?
– Конечно! А разве ты не знаешь, что я написал автопортрет?
– Разумеется, настоящий шедевр…
– Он и в самом деле недурен… А ты, ты хорошо изучил себя изнутри?
На следующий день после этого разговора Хоакин вышел из казино вместе с Федерико, которого он хотел расспросить об этом бесстыдном нищем попрошайке.
– Только скажи мне правду и, прошу тебя, на время оставь свой цинизм – ведь нас никто не слышит.
– Видишь ли, этому беспорточнику место в тюрьме – там по крайней мере он бы и питался лучше, да и жил бы куда спокойнее.
– А чего он такого натворил?
– Ничего не натворил; но должен был бы натворить, потому я и говорю, что место его в тюрьме.
– А что он должен был бы натворить?
– Убить своего брата.
– Ну, опять ты сел на своего конька!
– Обожди, сейчас поясню. Этот бедняга, как ты знаешь, родом из Арагона. А там, в Арагоне, существует полнейшая свобода в праве наследования. Он имел несчастье родиться первенцем, быть главным наследником, а затем еще имел несчастье полюбить одну девицу, бедную, красивую и, по-видимому, порядочную. Отец воспротивился браку всеми силами и пригрозил сыну лишением наследства, если тот женится на своей возлюбленной. А сын, ослепленный любовью, сперва сильно скомпрометировал свою зазнобу, полагая таким образом вынудить отца дать согласие на брак и заодно отделиться от дома. И так продолжал он жить в селе, работал у тестя и тещи, надеясь со временем умаслить отца. А этот, как истый твердолобый арагонец, даже и ухом не повел. Так и умер старик, оставив все свое состояние младшему сыну, а состояньице вполне приличное. Когда же умерли родители жены нашего попрошайки, то побежал он к брату своему просить работы и помощи, а братец-то ему откажи наотрез! Так вот, чтобы не убить своего братца, как того требовало сердце, он и переселился сюда клянчить милостыню да подаяние. История, как видишь, куда как поучительная.
– Да, тут есть над чем задуматься!
– Если бы он убил своего братца, эту разновидность Иакова, было бы плохо, но то, что он его не убил, тоже, как видишь, не лучше…
– А быть может, и хуже…
– Да, да, именно так! Ведь дело не только в том, что он живет презренной, позорной жизнью попрошайки, но он живет, ненавидя своего брата.
– А если бы он убил его?
– Тогда по крайней мере он излечился бы от ненависти, и теперь, раскаявшись в своем преступлении, он бы боготворил его память. Действие излечивает от дурных чувств, а ведь именно дурные чувства отравляют душу. Поверь мне, Хоакин, я-то знаю это очень хорошо…
Хоакин пронзительно взглянул на него и спросил:
– Уж не по собственному ли опыту?
– Знаешь, дорогой, лучше не спрашивай о том, что тебя не касается. Довольно будет с тебя, если я скажу, что весь мой цинизм – вещь чисто оборонительная. Я вовсе не сын того, кого вы все считаете моим отцом; я появился на свет от любовной связи моей матери и никого в мире не ненавижу так, как своего отца – отца по крови, который был настоящим палачом того, другого, чье имя из подлости и трусости было передано мне… Проклятое имя, которое я ношу и поныне…
– Но ведь отец не тот, кто зачинает, а тот, кто воспитывает…
– Тот, который, как ты полагаешь, воспитал меня, вовсе меня не воспитал, но лишь заразил ядом ненависти к зачавшему меня – тому, кто заставил его жениться на моей матери.
Когда Авель завершил свое образование, отец попросил Хоакина взять сына ассистентом, дабы тот работал с ним бок о бок. Хоакин согласился.
«Я взял его, – записывал позднее Хоакин в своей «Исповеди», обращенной к дочери, – из странной смеси любопытства, отвращения к отцу, симпатии к юноше который казался мне тогда посредственностью, из желания разделаться таким образом с сжигавшей меня скверной. Где-то в тайниках души злой дух нашептывал мне, что поражение сына с лихвой оплатит непомерную славу отца. Мне хотелось, с одной стороны, вниманием к сыну искупить свою ненависть к отцу, а с другой – я заранее предвкушал удовольствие видеть поражение Авеля Санчеса младшего в медицине, поражение, которое было бы равно триумфу, одержанному в живописи его отцом, Тогда я еще не мог предположить в себе глубочайшей нежности к сыну того, кто всегда омрачал и отравлял жизнь моего сердца».