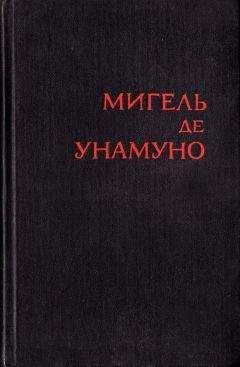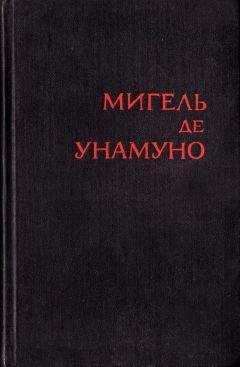– А, так уж не потому ли Хоакина решила уйти в монастырь?
– Я этого не сказала.
– Зато я говорю. Уж не из ревности ли к Авелину собралась она в монастырь? Неужели она боится, что его я полюблю больше, чем ее? Если так…
– Нет, нет.
– Так в чем же дело?
– Почем я знаю? Уверяет, что таково ее призвание, предназначение свыше…
– Предназначение свыше… Господня воля… Наверное, это все штучки ее исповедника. Кто ее исповедник?
– Отец Эчеварриа.
– Тот, что и меня исповедовал?
– Тот самый!
После этого разговора Хоакин еще долго сидел печальный, понурив голову, а на следующий день он позвал жену и с глазу на глаз сказал ей:
– Я как будто доискался причины, почему Хоакина хочет уйти в монастырь, вернее – понял, почему отец Эчеварриа настаивает на ее монашеском призвании. Помнишь, как я искал в религии утешения и помощи против проклятого наваждения, которое опутало мою душу, против того отчаяния, которое с годами все черствело, становилось неподатливым, непреодолимым, и как, несмотря на все мои страдания, так ничего из этого и не вышло. Нет, не дал мне утешения отец Эчеварриа, не мог мне его дать. Против подобного зла лишь одно средство, одно-единственное.
На минуту Хоакин остановился, как бы выжидая, но, так как жена молчала, он продолжал:
– Против этого зла есть только одно средство – смерть. Кто знает… возможно, я с ним и родился, с ним и умру. А этот жалкий исповедничек, который не смог помочь мне и даже не смог облегчить мои страдания, теперь – я в этом убежден – толкает мою дочь, твою дочь, нашу дочь в монастырь, чтобы там она молилась за меня, чтобы своим самопожертвованием спасла меня…
– Но при чем же тут самопожертвование… Она говорит, что в этом заключается ее призвание…
– Это ложь, Антония, уверяю тебя, чистейшая ложь. Большинство из тех, кто идет в монашки, идет туда, чтобы не работать и вести жизнь хотя и бедную, но беспечную, предаваться отдохновению и мистическим грезам… Есть и такие, которые стремятся туда, чтобы вы«, рваться из опостылевшего им дома. И вот наша дочь тоже бежит, бежит от нас.
– От тебя бежит…
– Да, бежит от меня! Она разгадала мою душу!
– К тому же теперь, когда у тебя появилась новая привязанность, этот…
– Ты хочешь сказать, что она бежит от него?
– Нет, просто от твоего очередного каприза…
– Каприза? Каприза, говоришь? Обо мне можно сказать все, что угодно, кроме того, что я капризен, Антония. Я все принимаю всерьез, Антония, все – абсолютно всерьез!
– Да и, может быть, даже слишком всерьез, – прибавила его жена, заливаясь слезами.
– Будет, не надо плакать, Антония, святая моя, мои добрый гений… Прости, если я что-нибудь сказал не так…
– Нет, нет, Хоакин, во сто крат хуже, когда ты просто молчишь.
– Ради бога, Антония, ради всего святого, сделай так, чтобы дочь не покидала нас; если она уйдет в монастырь, это меня убьет, наверняка убьет. Если она останется, я сделаю все, что она пожелает… Если она захочет, чтобы я расстался с Авелином, я расстанусь с ним.
– Я помню, как ты радовался, что у нас всего одна дочь и что нам не надо распылять свою любовь…
– Да ведь я и не распыляю ее!
– Тогда еще хуже…
– Да, Антония, наша дочь хочет пожертвовать собой ради меня и не знает, что, если она уйдет в монастырь, она доведет меня до отчаяния, погубит меня. Ее монастырь – 8десь, в этом доме!
Два дня спустя в кабинете Хоакина состоялся разговор с женой и дочерью.
– Отец, так хочет господь! – решительно воскликнула дочь, прямо глядя в глаза Хоакину.
– Неправда! Вовсе не господь, а этот твой исповедничек, – ответил отец. – Откуда тебе, желторотому цыпленку, знать, чего хочет или не хочет господь? Когда это ты успела побеседовать с ним?
– Я причащаюсь, отец, каждую неделю.
– За господние откровения ты принимаешь фантазии, которые приходят тебе в голову оттого, что твой желудок иссушен постом.
– Когда постом иссушено сердце, то приходят фантазии и похуже.
– Нет, нет, этого не может быть; этого господь не требует и не может требовать… Говорю тебе – не может требовать!
– Странно. Выходит, что я, отец, не знаю, чего желает господь, а ты знаешь, чего он не может желать! Как же это получается? Во всем, что касается вещей, связанных с плотью, ты, отец, разбираешься отлично, но как только речь заходит о боге, о душе…
– Душе? Так, значит, ты полагаешь, что я ничего не смыслю в человеческой душе?
– Как тебе сказать, но, быть может, для тебя было бы лучше вовсе не разбираться в ней.
– Ты в чем-то обвиняешь меня?
– Нет, отец, это ты сам обвиняешь себя.
– Видишь, Антония, видишь? Разве я тебе не говорил?
– А что он тебе говорил, мама?
– Ничего, дочка, ровным счетом ничего; просто мнительность, душевные колебания твоего отца…
– Отлично! – воскликнул Хоакин, как человек, на что-то наконец решившийся. – Ты уходишь в монастырь, чтобы спасти меня, разве не так?
– Возможно.
– От чего же ты хочешь спасти меня?
– Я и сама еще хорошо не знаю.
– Давай выясним! От чего? От кого?
– От кого, отец, от кого? Да от твоего же злого гения, от тебя самого, наконец.
– Что ты можешь об этом знать?
– Ради бога, Хоакина, ради бога! – взмолилась со слезами на глазах Антония, которую взгляд и тон ее супруга преисполнили страха.
– Оставь нас, Антония, мы сами решим этот спор. Тебя он не касается!
– Как это – не касается? Кажется, она моя дочь…
– Прежде всего моя дочь! Оставь нас вдвоем! Она Монегро, и я Монегро. Ты не разбираешься и не можешь разбираться в подобных вещах…
– Отец, если ты будешь при мне так обращаться о матерью, я уйду. Не плачь, мама!
– Однако скажи, дочка, ты и в самом деле веришь?
– Сейчас я верю только в одно – в то, что я настолько же твоя дочь, насколько и ее.
– Настолько же?
– Нет, пожалуй, больше ее, чем твоя.
– Ради бога, не смей так говорить, – воскликнула мать, заливаясь слезами, – иначе я уйду!
– Это было бы самое лучшее, – поддержала ее Хоакина. – С глазу на глаз нам, Монегро, легче разговаривать друг с другом, легче понять друг друга.
Мать поцеловала дочь и вышла из кабинета.
– Ну-с, – холодно начал отец, как только они остались' наедине, – так от чего или от кого ты собираешься меня спасать в своем монастыре?
– Видишь, отец, я не знаю точно, от чего или от кого, но знаю, что тебя нужно спасти. Я не знаю, что происходит у нас тут в доме, что происходит между тобой и матерью, не знаю, что происходит в тебе самом, знаю только, что происходит что-то плохое…
– Это тебе нашептал твой исповедничек?…
– Нет, исповедничек тут ни при чем, он даже не заикался об этом; мне вообще никто ничего не говорил, но я с самого рождения чувствовала, что происходит что-то неладное. Здесь, в этом доме, бродишь, как в духовных потемках!
– Все эти бредни ты вычитала из своих книг…
– Равно и ты свои бредни почерпнул из своих книг. Неужели ты думаешь, что только книги, которые говорят о том, что происходит в нашем теле, под бренной человеческой оболочкой, эти твои книги с такими уродливыми картинками, разными там скелетами, костями да кишками способны научить истине?
– Нет, прежде скажи, что ты называешь духовными потемками?
– Ты это знаешь лучше, чем я, отец; ты ведь не будешь отрицать, что в доме у нас что-то происходит, что здесь как бы сгустился какой-то туман, какая-то грусть, которая заполнила все, расползлась по всем щелям, что ты никогда не бываешь доволен, что ты страдаешь, словно над тобой тяготеет тяжкий грех…
– Первородный грех! – саркастически добавил Хоакин.
– Вот, вот, – воскликнула дочь, – он самый, от которого ты так и не избавился!
– Но ведь раз меня крестили!..
– Это не имеет значения.
– И для того чтобы излечить меня, ты собираешься постричься в монахини, не так ли? Так вот, прежде чем давать лекарство, нужно поставить точный диагноз, установить происхождение болезни…
– Да избавит меня господь от этого, отец, меньше всего бы я хотела быть твоим судьей.
– Однако осуждать меня можно? Разве не так?
– Осуждать тебя?
– Да, да! Осуждать… Вот так взять и уйти в монастырь – это и значит осудить меня…
– Ну, а если бы я вышла замуж? Если бы я бросила тебя ради мужа?…
– Смотря ради какого мужа.
Наступила короткая пауза.
– Так вот, дочка, – продолжал Хоакин, – со мной и в самом деле творится что-то неладное; я страдаю, страдаю уже давно, почти всю свою жизнь. Многое из того, о чем ты догадалась, – правда. Но своим решением постричься в монахини ты прикончишь меня, доведешь меня до отчаяния. Имей сострадание в своему отцу, несчастному отцу…
– Именно из сострадания…
– Нет, из чистого эгоизма. Ты видишь, как я страдаю, и тем не менее бежишь. Желание ничего не видеть и не слышать влечет тебя в монастырь. Разве это не есть чистейший эгоизм? Представь себе, что я заболел тяжелой, затяжной болезнью – ну, к примеру, проказой, что ли; разве ты ушла бы от меня в монастырь под предлогом вымолить мне у бога здоровья? Ответь, бросила бы ты меня?