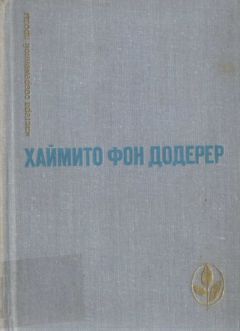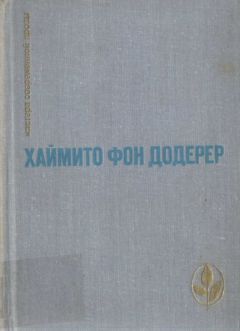Он снова окинул взглядом уже ставший привычным ландшафт и начал спускаться вниз по другому склону холма к лесу. Тот образовывал у подножия холма впадину, наподобие узкой долины, уходившей вдаль, в том направлении, откуда приехал сеньор Руй. Заблудиться на обратном пути было никак невозможно. Лес здесь рос густой, и в нем было больше низкорослого молодняка, чем на другой стороне холма. Лиственные деревья перемежались здесь с хвойными, и меж них вспышками осеннего пламени горели рябины, свисали гроздья барбариса, а там, где на земле коричневато-зеленым ковром лежал мох, из него выглядывали огромные шляпки мухоморов. Сеньор Руй углубился в чащу, шуршали кусты, цепляясь за стремена, а потом лес поредел, деревья расступились, и он ехал теперь уже по низине, изогнутая шея коня покачивалась перед ним, над нею размеренно колыхался флажок на древке, и взгляд его снова был устремлен ввысь и терялся там в череде древесных крон, то густых и темных, то редких и светлых.
Вдруг и они расступились. Открылась лесная поляна, протянувшаяся вдоль низины.
Сеньор Руй остановил коня. Насколько хватал глаз, влажная зелень поляны усеяна была глазками безвременников, цветов осени, которая здесь снова обнаруживалась во всем. А совсем вдали, там, где, по-видимому, кончалась лесная долина, возвышалась гора, громоздились друг на друга утесы и скалистые гребни, вонзаясь в шелковистое синее небо.
Сеньор Руй дважды зажмурил и открыл глаза. Потом сощурился, чтобы вглядеться пристальней. Но в этом не было нужды. Для наметанного глаза легко уловимо было движение поверх хребта на фоне небесной лазури. Зубчатая громада медленно сползала по утесу и наконец исчезла за ним вдали, зубец за зубцом.
Сеньор Руй глубоко вздохнул. Как странника, вернувшегося домой, завораживают знакомые очертания родных холмов, так и его захватило то, что он увидел вдали над утесом. Он раскинул руки, насколько позволяли поводья и копье, и флажок резко склонился вправо. Губы испанца раскрылись, и тут случилось то, что мудро подмечено было уже сеньором Гамуретом при дворе герцогини в Монтефале: вольный рыцарь де Фаньес иногда говаривал и стихами. Но если обычно его собратья по сословию адресовали это искусство прекрасным дамам, то на сей раз предмет воспевания был совсем иной и весьма странный - чудовище, исчезающее вдали. Сеньор Руй говорил про себя и словно в полусне:
И вновь ты проползаешь, словно рок.
Под сенью леса, как по дну морскому,
Медлительно, безмолвно и весомо,
Тщеславному мечтателю пустому
Укор досадный и урок.
Но тот, кто повстречал тебя случайно,
Кто честолюбья не отравлен ядом,
Прозреет вдруг и мудрым вещим взглядом
Проникнет тайны леса, жизни тайны
И бездны собственного сердца...
И тут сзади послышался бодрый, звонкий голос:
Я встрече рад! Двоим нам легче спеться!
Я рад, что старый рыцарский обычай
Чтит доблестный сеньор. А вот и песнь!
Рыцарь быстро обернулся, но без малейшего испуга. То был шпильман. Он сидел верхом на гнедой лошади, к седлу были приторочены разукрашенный колчан и лук, и его чуть раскосые глаза весело смотрели на сеньора де Фаньеса, в то время как правой рукой он перебирал струны двухрядной лютни; вдруг звуки стали громче, и будто громом органа наполнился лес, и шпильман запел:
Как даль благотворна
Сердцам опаленным!
Поляны в лесу - изумрудный ковер.
Всех молний чудесней
Клинок мой! И песню, о радость,
Пропой мне! О тайна лесная,
Уста мне целуй, завораживай взор!
Вешние ветры, осени листья,
Версты и годы, рыцаря рок!
Глянь - в отдаленье замки, селенья
Спят в стороне от дорог.
Еще лилась песня и мощно звучали струны. Но певец исчез. Последняя строфа стихала, удаляясь, доносилась откуда-то с дальней опушки.
Сраженья, скитанья
И утренней ранью призывные звуки
Звонкого рога.
Как дышится в мире легко и широко!
И вновь в отдаленье рощи, селенья
Спят в стороне от дорог.
Сеньору де Фаньесу почудилось, что он снова видит певца, это длилось несколько мгновений: шпильман ехал по левому краю прогалины в тени деревьев. Но теперь далекий всадник, казалось, играл уже не на лютне, а водил смычком по скрипке - ее щемяще-сладкие звуки взмыли, ликуя, ввысь и там угасли. А он сам повернулся в седле и смотрел издали на сеньора де Фаньеса. Но поскольку солнце заливало прогалину уже по-вечернему косыми лучами, а шпильман смотрел из лесного полумрака, глаз его не было видно, и рыцарю на какую-то долю секунды показалось, что на него устремлены две пустые глазницы.
Потом все стихло.
Будто какому-то скульптору-фантасту пришла в голову странная причуда поставить здесь, в лесной глуши, памятник последнему человеку, нашедшему в себе силы заглянуть в глаза живому дракону, - так недвижно сидел сеньор Руй у опушки на неподвижном коне.
Красива была эта статуя с алым копьем в руке, увенчанным флажком. Черты лица были сглажены, умиротворены и спокойны, взгляд устремлен чуть ввысь, в направлении росших на горном отроге в конце прогалины деревьев, будто взбиравшихся вверх по гребню, уступ за уступом, и, несмотря на большое отдаление, рисовавших на фоне неба четкий узор тонких ветвей. Гордой была осанка всадника, возвышавшегося на краю опушки, он сидел в седле прямо и чуть напряженно, что хорошо гармонировало с изогнутой шеей могучего коня. Тусклым серебряным светом отливала рыцарская кольчуга. В них и в самих-то по себе, в коне и всаднике, была уже некая торжественность - здесь, в этом полном безмолвии, в сиянии косых закатных лучей, протянувшихся к ним сквозь вязь древесных крон; но строгое это великолепие подчеркивалось еще и мерцанием пурпурной уздечки и поводьев, недвижно покоившихся в красивой, затянутой в перчатку руке, и золотисто-зеленым блеском низко свисавшего чепрака.
В глубоком безмолвии этих лесов, лишь изредка нарушаемом птичьим криком, тем явственней звучал, поднимаясь и ширясь, их собственный голос звучал меж древесных стволов, в разгоравшемся закатным золотом воздушном просторе над этой обрамленной деревьями поляной с фиолетовыми глазками безвременников, под громоздящимися вдали над лесом остриями утесов, отражавшими сияние упавшего на них вечернего огня. Не от плавно опускающегося листа исходил этот собственный голос лесов, не от того, что шелохнулся куст или опасливо и грациозно юркнула белка в листву; скорее это дышала и жила сама земля или слышалось, как непрестанно струится сквозь кроны небесный свет, да, может быть, еще перешептывались совсем диковинные и еле видимые крохотные существа, что уютно устроились во все удлинявшейся тени мухомора, скрестив лапки на брюшке.
И только их взгляды, взгляды таких вот существ, хрупкие, как стекло, и вездесущие, покоились на одинокой статуе у лесной опушки. Только им довелось увидеть легкую улыбку, игравшую на умиротворенном лице всадника, - единственное движение, оживившее его черты за все долгие полчаса. А предназначалась эта улыбка отважному и благородному другу Гамурету, вольному рыцарю из Фронау, куратору Орта и правителю Вайтенека, однажды спросившему его, в чем же будет конечное оправдание тяжкого похода, если не взять награды.
Вот и все, что случилось за эти полчаса, что подавало хоть какие-то признаки движения, жизни, - да еще постепенный переход дневного света в красноватый вечерний сумрак, стлавшийся низко по земле и широкими полосами вползавший меж стволов в лес, отчего озарялись изнутри кусты, как изумрудные гроты, а еще выше, на ветвях рябины, вспыхивал красный пучок осенних плодов.
Destrier поднял правую переднюю ногу, глухо топнул широким копытом и беспокойно заскреб землю.
Когда он так сделал во второй раз, а господин и бровью не повел, могучий конь повернулся в ту сторону, откуда они пришли, и тронулся в путь.
Руки сеньора де Фаньеса оставались недвижны.
Медленно прошел конь сквозь густеющие сумерки долины, на другом ее конце углубился в кусты, зашуршавшие по стременам, и, удаляясь от опушки, начал подниматься вверх по плоскому, поросшему альпийскими травами склону. Они ехали теперь прямо на закат, и пылающий горизонт погружал лес в глубокий чернильный мрак. А в противоположной стороне, лицом к закатному пожару, уже взошла на небо луна и плавала, стеклянная и лоснистая, над бескрайними далями, и свет ее отовсюду лился в долины, оттеняя в них каждый выем.
Будто выступая впереди торжественной погребальной процессии, выстроившейся за ним в двойном освещении меркнущего и восходящего светил, медленно ехал сеньор Руй по холму, по траве, блестевшей в лунном сиянии, как жидкие волосы. И пышной, пестрой была процессия за его спиной: мерцание доспехов, облитых светом луны, расплавленным серебром затопляло маслянистый блеск парчи, робкое свечение шелка. И все со своими флажками на древках копий. Все со своими дамами, чья прелесть оттенялась луной. И смуглолицые враги из священной земли тоже ехали меж ними, в ярких одеждах и тюрбанах, с луками в руках, и все они походили на шпильмана. Но и шпильманов было много в этой толпе, то тут, то там всплескивалось пение, смеялись дамы, аплодировали господа, и каждая новая песня была как последний всплеск, будто все они вдруг спохватывались и понимали, что это никогда больше не повторится. Иссиня-черные и белокурые волосы выбивались из-под кружевных и раззолоченных чепцов, и по бережной поступи статных иноходцев видно было, с каким тщанием объезжали их некогда для этих дам минувших времен.