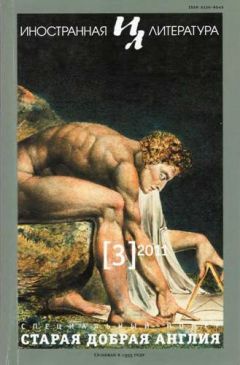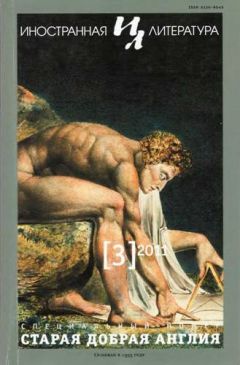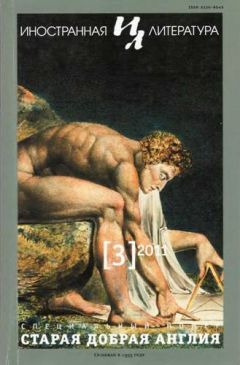чем я ожидал. Друзья, как верные соратники, встали грудью на его защиту, заявив, мол, рука посредственности задушила шедевр. Однако мне, если честно, было плевать. Ум был занят только новым романом и отчаянной идеей поступить на медицинский факультет, и все это на фоне неотступных грез о Берлине. Этот город взывал ко мне еженощно эротическим хриплым голосом граммофонных мелодий, которые я слышал в однокомнатной квартире Вальдемаровой «невесты». Я не сомневался, что рано или поздно отправлюсь в Берлин. Даже начал самостоятельно учить немецкий язык по трехмесячной программе: ехал куда-нибудь в автобусе и повторял неправильные глаголы. Они звучали для меня как заклинания из «Тысячи и одной ночи», делающие из тебя владыку райских наслаждений.* * *
Экземпляр «Конспираторов» я, разумеется, мистеру Ланкастеру не отправил, зато написал ему благодарственное письмо – один из тех шаблонных и бездушных текстов, что меня приучили составлять с детства. Он мне так и не ответил.
Когда же я попытался описать мистера Ланкастера друзьям, то обнаружил, что не в силах представить его как человека серьезного или даже комичного. Я не мог подобрать к нему ключа. А когда вслух зачитал его поэму Аллену Челмерсу, то смутились мы оба. Она оказалась не так уж и плоха. Челмерс только лишь из вежливости сделал вид, что она ему не по нраву.
Когда же я в беседе с матушкой спросил, что с любовью в жизни мистера Ланкастера, она лишь бегло улыбнулась и пробормотала:
– О, вряд ли беда в ней.
И тут же призналась, что прежде не сочла нужным рассказать мне, как после войны мистер Ланкастер женился, однако супруга его оставила, и позже они развелись.
– Дело в том, – сухо пояснила матушка, – что кузен Александр, как я поняла, совершенно не выполнял роль мужа.
Это откровение сильно меня огорошило. Однако удивился я не столько новости о бессилии мистера Ланкастера – тут как раз таки все было предсказуемо, – сколько собственной матушке. Никогда не устану поражаться способности даже самых утонченных леди спокойно и даже естественно говорить о чем-то интимном. Матушку моя реакция, похоже, обрадовала, ведь она в кои-то веки сумела сказать нечто «модное»! Правда, как она этого добилась, ей уже было невдомек.
Думаю, я постепенно забыл бы о мистере Ланкастере, если бы ему не удалось вновь завладеть моим вниманием самым театральным из доступных способов. Ближе к концу ноября того же года он застрелился…
Новость сообщил в письме его помощник, «заместитель», который одалживал мне смокинг для банкета. После того ужина я успел мельком повидаться с ним в конторе и поблагодарить. Помню, это был невысокий йоркширец с лицом в багряную прожилку и сильным акцентом, добродушный и способный человек.
В письме событие излагалось сухим деловым тоном. Мистер Ланкастер застрелился вечером у себя на квартире, однако тело обнаружили только на следующий день. Не было ни предсмертной записки, ни каких-либо еще записей «личного характера». (Блокнот с поэмой мистер Ланкастер, должно быть, сжег.) Он не болел, финансовых трудностей не испытывал, а дела компании не давали поводов для тревог. В заключение заместитель мистера Ланкастера формально выразил нам соболезнования «в связи с большой утратой». Он, несомненно, принял нас по ошибке за его кровную родню или же просто решил, что мы – его близкие люди, поскольку больше таковых не сыскалось.
Поступок мистера Ланкастера сильно впечатлил меня. Суицид я в принципе одобрял всецело, считая его актом протеста против общества, и о бунте мистера Ланкастера мне захотелось сочинить целую сагу. Превратить самоубийцу в романтического героя… У меня не вышло. Я не знал, как это сделать.
На следующий год я все-таки отправился в Берлин – моя врачебная карьера закончилась, толком не начавшись, – и там через некоторое время встретил Вальдемара. Ему наскучила жизнь в родном городишке, и он перебрался в столицу в поисках счастья.
Само собой, о суициде мистера Ланкастера Вальдемар почти ничего не знал, зато поведал нечто удивительное. Оказывается, после моего отъезда мистер Ланкастер много рассказывал обо мне коллегам. Как я написал книгу и как она провалилась в Англии, потому что критики – сплошь дураки, но однажды я стяжаю славу одного из величайших авторов своего времени. И всякий раз он называл меня племянником.
– По-моему, ты ему очень нравился, – сентиментально добавил Вальдемар. – У него же не было родного сына, так ведь? Кто знает, Кристоф, вдруг он был бы еще жив, останься ты за ним присматривать!
* * *
Если бы все было так просто!
Сейчас, мне кажется, я понимаю, что приглашение мистера Ланкастера стало последней попыткой восстановить связь с внешним миром. Но для него, конечно, было слишком поздно. Если мой визит на что и пролил свет, так это на причины, которые мешали ему сблизиться с кем бы то ни было. Слишком уж долго он просидел в своем резонаторном ящике, прислушиваясь к колебаниям собственной души, к эпической песне о себе. Я не был ему нужен. Он вообще ни в ком не нуждался, разве что в воображаемом воспитаннике-племяннике на вторых ролях в его личном эпосе. После моего отъезда он такового создал.
Однако позже, наверное, взял и разуверился в этом своем рассказе. Отчаяние – до ужаса простая вещь. Мистер Ланкастер очень любил рассказывать свою легенду, но даже его она не удовлетворяла. Полагаю… Нет, надеюсь, что длилось это недолго. Мало кто из нас способен выносить такую боль сознательно. Почти всегда мы, слава богу, страдаем глупо и бездумно, как животные.
Амброз
Минуло пять лет – на дворе май 1933-го, – и вот он я, отправляюсь в новое путешествие. Еду из Берлина в поезде на юг, к границе Чехословакии, и напротив меня сидит Вальдемар.
Что я тут делаю? Что тут делает он?
Можно было бы сказать, что мы бежим от нацистов. Вальдемар, любитель мелодраматизма, поддержал бы меня, и я сам описал бы наше странствие как побег от опасности… но как-нибудь потом, в кругу людей мало просвещенных и доверчивых. С моей стороны сказать такое этим утром было бы слишком бессердечно, ведь мы, будучи в полной безопасности, окружены теми, кому беда грозит нешуточная. Граница, которую мы вскоре достаточно легко – спасибо моему британскому паспорту – пересечем, для них превратилась в тюремную стену. Среди пассажиров полным-полно тех, кто правда бежит из страха за жизнь, по поддельным бумагам; они боятся разоблачения, ареста, концлагеря, а то и вовсе расстрела на месте. Лишь в последние несколько недель я в полной мере осознал, что эта ситуация сложилась не где-нибудь на страницах газет или романа, а там, где я сам до недавних пор жил. Ужасная и странная, она уже стала нормой жизни. Террор пока творится на любительском уровне, однако власти вот-вот