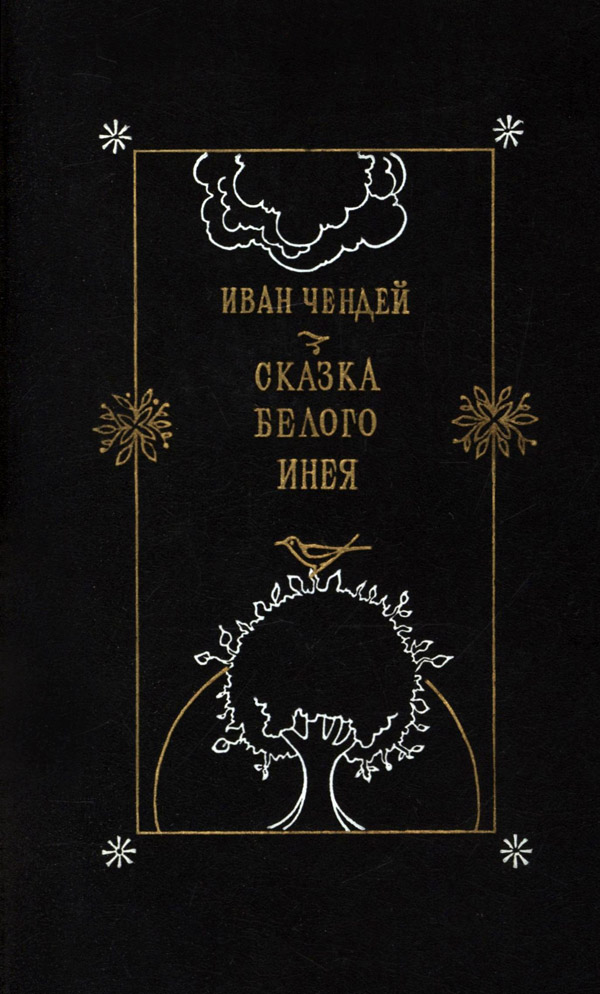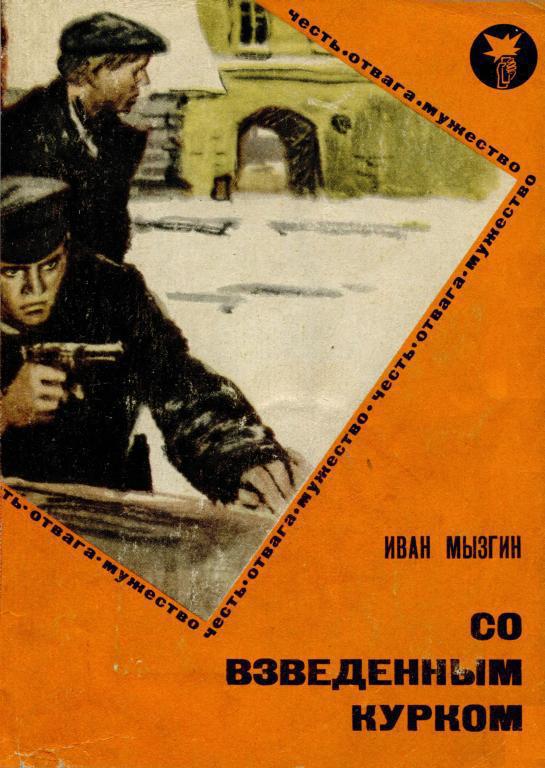на лицо мастера, освещенное лучами ясного холодного солнца, клонившегося к закату. Казалось, в Иване воплотилось сейчас все человеческое достоинство, все самообладание. Никогда еще отцу Климентию не приходилось видеть ничего подобного. Это граничит со святостью, подумал он.
Иван тоже смотрел на священника. Стоя в тени у двери, духовный отец как бы таял, расплывался, только свободно опущенная рука его была почему-то непомерно большой. Очень большой. И белой-белой…
Но не одну лишь большую белую руку отца Климентия видел Иван в сумерках у дверей своей хаты. Иван видел себя на широком плацу, слева и справа строились обмундированные, вымуштрованные его товарищи, звучала громкая команда, звенели шпоры офицера, шедшего отдавать рапорт, приближался преподобный отец с черными нашивками майора. Усеянное цветами, залитое солнцем поле, окаменевшие ряды солдат с остановившимся взглядом и выпяченной грудью, черные жерла пушек, сооруженная из зеленых веток чудная часовенка и короткий молебен… и слова, благословляющие их убивать и умирать за цесаря… Поп — офицер махнул кропилом в сторону солдат, махнул в сторону пушек, лошадей, повозок, большой белой рукой начертал крест на все четыре стороны света, точно повсюду слал погибель и смерть.
Иван смежил веки.
— Вашего мужа еще рано исповедовать!.. — промолвил поп неприязненно, когда Олена вышла за ним на крыльцо.
Хозяйка на минуту задумалась.
— Сказал, чтобы, как помрет, я для себя священника позвала… а для детей музыку… — стала она оправдываться, вся охваченная стыдом и смущением, столь серьезной казалась ей ее вина перед священнослужителем.
Поп стоял на ступеньках. Смотрел на далекий светлый горизонт. Когда на пологие невысокие горы падали угасающие лучи солнца, чудилось, будто горы смыкаются с небом.
Во дворе перед хатой томился Сидорко Штым. После выпитой натощак сливовицы у него началась изжога, неприятно горчило во рту, он оттопыривал верхнюю губу, отчего топорщилась короткая щетина. И по всему было видно, сказать Сидору нечего.
— Вот я и подумала, коли завел об этом речь, значит, хочет исповедаться… — продолжала Олена, то ли отвечая на свои мысли, то ли обращаясь к отцу Климентию.
— Он сказал, чтобы вы позвали себе священника, а детям оркестр. Да не сказал, кого следует позвать для него!.. — задумчиво произнес отец Климентий.
— А мне и невдомек…
Утро вставало в густой сини, которая мало-помалу редела над самым горизонтом, потом заметно голубела, переходя в серебристую лазурь, и наконец превращалась в холодное дневное свечение.
Время, как видно, летело быстро — скоро поднялось солнце. Светило оно как-то странно, обходило село стороной, но силы ему хватало: ближе к полудню в овражках начал подтаивать снег и забурлили ручейки.
Хата Ивана плакала черными стрехами.
Выстроившись в ряд по всей длине насупленной крыши, большие густые капли выстукивали однообразный тоскливый мотив.
Отец Климентий в одеянии со скупо нашитыми лапчатыми серебряными крестами, предназначенном для похоронной требы, стоял во дворе. Ивана еще не выносили, родные и близкие не спешили прощаться с ним — ждали духовой оркестр, но тот почему-то запаздывал, хотя завком, по слухам, гарантировал абсолютную точность. Внуки Ивана, работавшие на заводе, нервничали, чувствуя себя виноватыми, да делать было нечего, приходилось терпеливо ждать.
Иван лежал в гробу из тех самых досок, которые сам когда-то отстругал и припас, о которых несколько дней назад говорил Юрку. На покойном был серый в полоску костюм — «его и на пасху надеть не стыдно». Справа от Ивана лежала не та палка, с которой он обыкновенно ходил, а щедро увитая виноградной лозой и гроздьями винограда резная трость с головой хищного зверя на верхнем конце. Это произведение искусства как-то осенью привезла Ивану из знаменитого Трускавца его дочь Мария. И, видно, подарок пришелся отцу по душе: он пользовался тростью только по праздникам да воскресеньям, в слякоть никогда не брал с собой… Шляпа с изогнутыми краями — кто в их большом селе не знал эту шляпу? — лежала на левом плече, будто только что сползла с головы. В левый карман пиджака кто-то сунул толстый журнал, в котором было и много текста для чтения и немало смешных картинок для рассматривания. Знать, помнили люди, что Ивану предстоит дальняя дорога с большими станциями для пересадок и маленькими остановками для отдыха.
Послышались громкие голоса, и солнечный луч упал на Иваново лицо. С остановившегося у хаты грузовика прыгали парни, подавая друг другу блестящие, но уже кое-где помятые и поцарапанные оркестровые медные трубы.
Хозяйка вмиг точно окаменела, застыли у гроба дочери и сыновья, зятья и внуки. Тихо плача, Олена всей ладонью гладила мужа по его пожелтевшему лицу, точно хотела сквозь слезы что-то сказать ему. Всем своим тяжелым телом тянулась вперед и замирала над Иваном.
Дочери заботливо подхватили мать под руки, приблизились зятья, словно тещу передавали под их опеку. Дочери — старшая и младшая — по очереди припадали к отцовскому лбу, а отец впервые ничего не слышал, ничего не видел, не знал. И наверно, поэтому текли и стыли слезы детей, теперь уже сирот, и слышались рыдания, и тоска отзывалась в сердце острой болью…
Длинная и широкая телега-платформа на резиновых колесах была низкой и, главное, неприспособленной для провожания в последний путь хотя бы потому, что на ней обычно перевозили пузатые бочки с пивом, тяжелые ящики с провизией и мешки с мукой и сахаром, но сейчас об этом никто не думал. В подводу были запряжены сильные, хорошо откормленные кони — рыжий и серый, и казалось, что она едва возвышается над землей, а кони невероятно огромны.
Кони терпеливо ждали, телега была уже со всех сторон обвешана бумажными венками, а Ивану все несли и несли венки из каждой хаты…
И, как только парни задули в трубы, колыхнулся настоянный на еловой хвое и венках воздух.
Отец Климентий спокойно снял епитрахиль, сложил ее и сунул в чемоданчик; теперь он совсем не был похож на священнослужителя, даже как-то затерялся в похоронной процессии.
Под тихий плач родных выносили Ивана со двора, укладывали среди венков на подводе-платформе, застланной недорогим ковром.
На высоком сиденье, держа в руках вожжи, с сосредоточенным видом сидел брат вдовы Юрко — бывший артиллерист в корпусе генерала Людвика Свободы. Он озирался по сторонам, и оттого, что все лицо его было испещрено преждевременными морщинами, изрыто большими и малыми бороздками, Юрко казался более суровым, чем был на самом деле, и куда старше своих лет.
Процессия все никак не могла тронуться в путь, перед телегой еще толпилась молодежь с венками — венков и впрямь была тьма-тьмущая.
Наконец