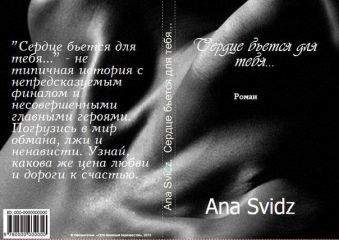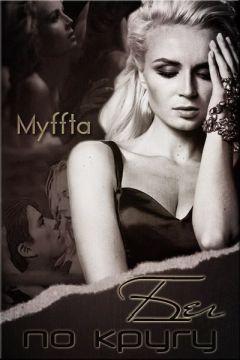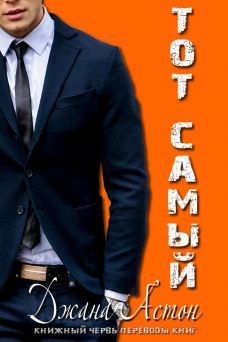– А что случилось? – испуганно спрашиваешь ты.
– Как обычно: головка, животик…
На твоём лице недоумение:
– Так кто плакал: Антоша или Ксюша?
* * *
И во все долгие вечера, долгие-долгие вечера первой Ксюшиной зимы и её первой весны, долгие вечера, когда папочка на работе, а Ксюня исходит слезами… рядом со мной – мой мальчик, мой чудесный друг. Он хлопочет на кухне, готовит ужин, перемывает горы посуды, отвечает на телефонные звонки (“Мама не может, позвоните утром”), метёт полы, кипятит воду для Ксюшиного купания, и то и дело заглядывает в комнату: “Что ещё сделать, мамася?” “Мамася” – так он меня называет с раннего детства. Так и осталось это ласковое – мамася. Подойдёт, сочувственно посмотрит на взмокшую от крика сестру: “Как будто из ванны ты её вытащила. Бедная… А она не голодная?… И что, опять не сосёт? А молочко у тебя есть? Откуда ж ему быть, когда ты так психуешь?… А из склянки она не ест, ну, из бутылочки этой? Ишь, как она к тебе пристрастилась! А я из склянки ел? Вот, я был сознательный! Ксюнька, когда будешь проявлять сознательность?” Он улыбается, он умеет оставаться спокойным, он мужчина. Без него я бы сошла в эти вечера с ума… Ходит, ходит вокруг нас кругами, лучась нежностью, то по голове меня погладит, то по плечу, приговаривает магическое: “Всё будет хорошо, мамася! Вот увидишь – всё будет хорошо! Когда? Не знаю… Может быть – завтра. Всё будет хорошо!”
ЧТО ВЫ МНЕ ПОСОВЕТУЕТЕ?
Глава четвертая
Позвонила редакторша из издательства. Она прочла мою повесть об Антошином детстве. Отрывки из которой напечатал журнал. Повесть ей понравилась. Даже более того – редакторша от неё в восторге. Более того – она вообще ничего подобного в своей редакторской жизни не читала! Более того – она, редакторша, страстно хочет со мной познакомиться и выразить лично свою благодарность. И просто поглядеть на меня – такого замечательного автора.
И при этом:
– Нет-нет, мы не можем напечатать вашу повесть. Она не по нашей тематике.
– Как?! – изумляюсь я.- Повесть о детстве не по тематике детского издательства?
– Нет-нет! Мы такого не печатаем. Вот если бы это было смешно…
– В каком смысле смешно? – не понимаю я.
– Ну, если бы вы написали коротенькие смешные рассказики, мы бы их с удовольствием напечатали. Может быть. Такие, совсем коротенькие и смешные. Для малышей.
– Но… я работаю в другом жанре.
– Ну, и что?
– Я не пишу для малышей. Я пишу для взрослых о Детстве. Неужели это не понятно?
– Почему не понятно? Но вы возьмите и напишите. Смешные и коротенькие. А ваша повесть очень хорошая, просто замечательная!
* * *
“Дорогой Петр Яковлевич!
Большое спасибо Вам за тёплые слова, которыми Вы предварили мою повесть в журнале. Спасибо, что помогли выйти ей – хотя бы в таком виде. Но уж очень велики сокращения и потери смысла; это даже не отрывки, а какие-то огрызки… А в издательстве, куда я отнесла повесть по Вашему совету, мне отказали. Хотя повесть понравилась. Но они “такого” не печатают. Предложили мне переключиться на писание маленьких смешных рассказиков для малышей. Вот уж нелепость! Принёс человек симфонию, а ему говорят: всё хорошо, только лучше бы вы писали эстрадные песенки… Последняя фраза предисловия, где Вы, Петр Яковлевич, желаете мне выйти на широкую литературную дорогу, заставила меня грустно улыбнуться. Наверное, лет 20-25 назад, когда я была начинающим автором, такое напутствие окрылило бы меня. Но сейчас…
Ведь мне почти сорок. И у меня в столе – десять поэтических книг и четыре книги прозы. Много лет я безуспешно стучусь в глухие стены редакций и издательств. Итог: крошечный сборник стихов и повесть о цирке всё же были напечатаны (да вот теперь, с Вашей помощью, эти отрывки). Но случайные эти удачи не избавили от горького ощущения, что я двадцать лет пытаюсь говорить с завязанным ртом… Всю жизнь старалась идти своей дорогой, с ужасом оглядываясь на широкую, по которой валит толпа с хорошо развитыми локтями и зубами…"
– Мама, Ксюша плачет!
* * *
“Никто не видал? Тут письмо где-то валялось, черновик, Петру Яковлевичу…” – “Не видали”. – “Придётся заново писать…”
“Дорогой Петр Яковлевич!
Закончилась публикация глав моей повести. Спасибо, что помогли. Спасибо за доброе предисловие. Хотя последняя фраза вызвала у меня горькую улыбку…"
– Мама, Ксюша плачет!
– Бегу!
“…Увы, Пётр Яковлевич, но с приходом так называемой гласности лично для меня ничего не изменилось. Если раньше мои книги не издавали потому, что в них мало оптимизма и нет производственной тематики, то теперь – потому что в них много оптимизма и отсутствует то, на что сегодня конъюктурщики делают ставку: нет сталинских лагерей и проституток.
Да, я пишу о другом. Я пишу о любви. Я почему-то убеждена (хотя, может быть, это моё глубокое заблуждение?), что мои книги нужны бедному советскому человеку, который и забыл уже, на чём держится мир… А держится-то он на любви!
Написала новую повесть. Хотелось бы, чтобы Вы её прочли, но не решилась послать без Вашего на то согласия.
А куда нести “Наши зимы…” – не знаю. И что Вы мне посоветуете теперь?…"
– Ну как ты, Нуш?
– Потихоньку вымираю…
– Вот-те на! Отчего вымираешь-то?
– От счастья, само собой.
– Постой-постой, что у вас случилось?
– Ничего, Коленька. Обычная жизнь: газики, головные боли, Ксюшины и мои, четыре месяца без сна…
– Но ты же этого хотела.
– Да. Только сил оказалось мало… Даже четырнадцать лет назад, когда была с Антоном одна, и работала, и училась, мне было легче, чем сейчас. Всё-таки молодость – великая вещь! А сейчас… Мне кажется, я не выдержу.
– Выдержишь, куда ты денешься.
– На ребят своих по пустякам обижаться стала. Постоянно в таком диком напряжении!… Нет сил, нет больше сил…
– Ну вот, заладила… Спать больше надо, чтоб они были.
– Но ведь это невозможно, Коля!
– Пусть Гавр встаёт к Ксюне по ночам.
– Я не могу ему этого позволить. Ведь он на работу ходит! Он так не выдержит. Ему надо высыпаться. Хоть чуть-чуть…
– А тебе?
Я молчу.
– Нуш, ты что там, ревёшь, что ли?… Кончай. Слышишь? Кончай. Все через этот период проходят: когда кажется, что сил больше нет.
Я молчу.
– Послушай, а ты сейчас пишешь что-нибудь? – спрашивает он.
– Ты что, Коля, издеваешься?! Когда мне писать?! КОГДА??? Я едва дневничок Ксюшин успеваю вести…
– А по-моему, тебе всё равно надо писать. Уж не знаю, когда, но – надо. Иначе ты действительно не выдержишь этого напряжения. Тебе, чтобы выдержать, нужно СВЕРХнапряжение!
– Коля, ты мне это как доктор советуешь, что ли?
– И как доктор тоже.
Я даже на него обиделась. Человек устал до смерти – а вместо сочувствия ему желают сверхнапряжения!
Два дня пообижалась, а потом…
– Ты знаешь, милый, а я сегодня новую книгу начала…
– ЧТО?
Пауза.
– Неужели правда?
– Правда.
– Когда же ты ухитрилась поработать?
– Когда Ксюнечка на лоджии спала. Полчаса укачивала её, а потом, в те двадцать минут, что она спала, посидела за компьютером.
– Ну и ну! А говорила: три года ни строчки не напишешь. Ой, как я рад! Ты даже не представляешь, как я рад. А про что книга?
– Всё про то же. Про деток. Про нашу жизнь. Ни о чём другом писать не хочется…
Помолчали.
– Между прочим, я даже название уже придумала. Сказать?
– Скажи.
– “Эй, там, на летающей соске!”
– Ух ты, здорово!… Хотя и непонятно.
– Это тебе-то непонятно?
Мы смеёмся.
А на следующий день ты придумал отличную штуку. Простую, как всё гениальное. К коляске, стоящей на лоджии, ты привязал верёвку. Так, чтобы, пропущенная в дверную щель, она дотягивалась до письменного стола.
Теперь я работаю с комфортом! Сижу за компьютером и одной рукой, вернее даже – одним пальцем – настукиваю по бесшумным клавишам, а другой рукой – укачиваю Ксюню. За верёвочку. Ещё холодно, в щель дует, порой со снегом, и я сижу за компьютером в пальто.
Коротенькие минуты блаженного сверхнапряжения…
Отличная штука – этот электронный ящик. Когда-то (когда ты только притащил его с работы) я против него бунтовала. Да, я поклонница старины: уж если не гусиного пера, то, по крайней мере, пишущей машинки.
Так было раньше.
А теперь – наслаждаюсь: не надо двигать коретку, прилагать к этому свои последние физические силы, не надо отбивать о клавиши пальцы. Но главное – ТИХО! Можно и ночью потюкать, и никого не разбудишь. Дружище Роботрончик, чтобы я без тебя делала?