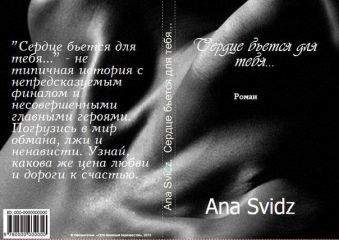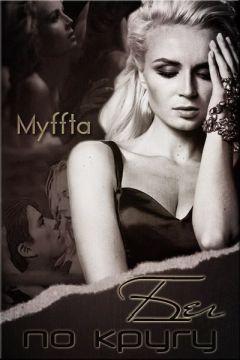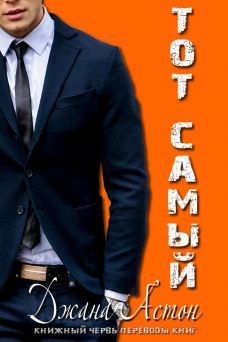“Некоммерческая литература”. А кто-нибудь пробовал? Она бы в мгновение ока разошлась – моя книга.
Вот я какая самоуверенная!
* * *
Наверное, я смешной, наивный человек. Мне почему-то кажется, что литература должна быть не коммерческой – а духовной.
Наверное, я смешно выгляжу со стороны?
Слава Богу, мои дети надо мной не смеются. Но как я им объясню: почему? почему, почему, то, что я делаю, никому не нужно?
Вернее: почему оно никак не пробьётся к тем – кому нужно?
“Они! Они в нашей жизни неистребимы!”
“Это фантомы”, – успокаиваешь меня ты.
“Нет, они – это страшная реальность нашей жизни”.
* * *
Они уже печатают правду жизни.
Но – не правду вечности.
(До этого ещё далеко! Целая вечность?…)
* * *
Мне скажут: не самонадеянность ли претендовать на знание этой правды?
Так ведь не я её добывала. Не придумывала. Ведь было же сказано два тысячелетия назад: “Я ЕСМЬ ИСТИНА…”
И – чуть позже – уже другим: “БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ”.
* * *
Дольше всего лежат в ящиках, труднее всего пробиваются к читателю самые тихие книги.
* * *
Всех скандалистов уже напечатали. Эмигрантов напечатали.
А нас – тихих – по-прежнему нет.
Значит, мы – то есть, наши книги – представляем собой самую большую опасность для этой системы.
Нас боятся больше, нежели боялись диссидентов.
* * *
Кому я со своими книгами о любви представляю опасность?
Но, наверное, представляю. Если повсюду слышу: “Мы такого не печатаем”.
Это даже как-то возвышает в собственных глазах: то, что я никаким боком не вписываюсь в эту систему. Было бы скорее грустно, если бы я ей “подходила”. Этого ещё не хватало!
* * *
Настоящие вещи – не громкие. Тихие.
Что может быть тише, чем “я тебя люблю”? Но на нём держится мир. Мир настоящий.
“Я тебя люблю!” – и декорации театра абсурда рушатся, рассыпаются прахом…
Театр абсурда не приемлет настоящих слов.
* * *
“Нет, это не государство! Это – сумасшедший дом! Сюр какой-то!”
– восклицаем мы, разворачивая утренние газеты.
– Может, Ксюша поэтому и плачет, что родилась в сумасшедшем доме?
– Может, поэтому и смеётся?…
“Уехать, что ли?…”
* * *
“Уехать, что ли?…”
Какого русского интеллигента не посещала эта мысль?
А за ней следует другая: “А кому мы там нужны? И – что мы там будем делать?…”
– Мамася, если сосчитать, в какие только страны ты не собиралась уехать, получится, наверное, стран двадцать пять. Не меньше! Ты каждый день собираешься куда-нибудь уехать. А не можешь переехать в соседний дом…
Это действительно так. Не могу.
Меня держит наш намоленный дом. Дом, который пятнадцать лет назад освещали четыре прекрасных священника – одновременно! Где крестили моего сына. Где крестили, совсем недавно, мою дочь. Где бывали: отец Александр Мень и отец Димитрий Дудко, и отец Сергий Хохлов, и мой замечательный крёстный – Кирилл Георгиевич Кнорре, и художник Валерий Каптерев здесь бывал, и поэт Людмила Фёдоровна Окназова, наша с Гавром волшебная крёстная. И невероятный Александр Яковлевич Шнеер на своём девяносто девятом году жизни посетил нас, и астрофизик Александр Самуилович Пресман здесь бывал, и зоолог-путешественник Владимир Сергеевич Залетакев… И ещё столько прекрасных и любимых людей осветили собой это небольшое, но такое ёмкое жизненное пространство!
Как я могу оставить наш дом, наш храм? Как я могу променять его на большую благоустроенную квартиру?
Можно ли променять храм на квартиру?
И где, в каких краях, будет у нас такой Дом?…
ГРЕМИТ ПОГРЕМУШКА, ГРЕМИТ ЭЛЕКТРИЧКА…
Глава шестая
СИНЯЯ РЫБА, РЫЖЕВОЛОСЫЙ ГИВИ И ДРУГИЕ
Синяя рыба. Она висела четырнадцать лет тому назад над Антошиной кроваткой… Теперь – над Ксюшиной.
Рыжеволосый Гиви – клоун-неваляшка, которого мы с тобой высмотрели в горном балкарском селении под Нальчиком: клоун красовался в тамошнем магазинчике, и мы, конечно, тут же его ухватили. Цирк – наша давняя, застарелая любовь. И хотя мы уже сто лет туда не ходим, но стоит мелькнуть где-нибудь клоунской философичной улыбке – на календарике ли, на значке, в журнале – и тут же внутренние вибрации. И – словно солёные, горькие, пьянящие брызги в лицо – из того времени, имя которому – Наша Юность…
…Рыжеволосый клоун несколько лет пылился в шкафу. И вдруг – его оттуда извлекли, его умыли, начистили его шляпу, выстирали посеревшее от пыли жабо, надраили пуговицы на круглом животе. И – отправили работать в манеж!
В манеже обитает глазастое певучее существо, которое ко всеобщему изумлению распевает песни следующего содержания: “Ги-и-ви-и”, “Гдля-а-ан”, “Ва-а-ап”, “Ги-и-иви”… После многократно исполненного “Ги-и-ви-и” родители глазастого существа радостно всплеснули руками и воскликнули: “Ну, наконец-то у нашего клоуна появилось имя! Гиви! Как мы раньше не могли догадаться, что это – Гиви!”
Рыжеволосый Гиви радуется такому удивительному повороту судьбы и мелодично звучит, неутомимо и кругло раскачиваясь, как толстый маятник, повинуясь малейшему движению крошечной руки Главного Запевалы.
Вскоре у Гиви появилась очаровательная, такая же кругленькая, как он сам, партнёрша. Она меньшей комплекции и, облачённая в оранжевое, прекрасно смотрится рядом с рыжеволосым клоуном, облачённым в синее. Она прибыла в манеж из Старого Чемодана и зовут её – Ещё-Антошина-Катя.
Гиви и Ещё-Антошина-Катя теперь распевают дуэтом… Дирижирует ими всё то же глазастое существо, предпочитающее при этом валяться в манеже на спине или на животе. Сценическое имя существа – Иксик, в миру – Ксюнечка. Дирижёр Иксик обладает своим, неповторимым, почерком: в отличие от всех других дирижёров мира, он управляет музыкантами не только руками, но и ногами, и даже головой! Дрыгая ногами, он колотит пяткой по Круглой Погремушке; дрыгая руками – по длинным звенящим цепям, свешивающимся в манеж откуда-то из-под купола; вращая то влево, то вправо головой – заставляет резво раскачиваться стоящих вблизи его, дирижерских, щёк, Гиви и гивину партнёршу!
И всё это – непрестанно звенит и гремит, гремит и звенит – как орган, как семья музыкальных эксцентриков!…
И лишь короткие паузы случаются в этой симфонии – когда Иксик, в миру – Ксюнечка, восполняет утраченную энергию, припадая к маме. Или – предаётся сну. Но сон его – короче, намного короче, чем у всех других дирижёров мира!…
“ТАК ЗНАЧИТ, ВСЕ-ТАКИ ЦИРК?”
“Девочка-оркестр!” – скажет всякий, кто подойдёт к наполненному звоном манежу… “Так значит, всё-таки цирк?” – говорит папа.
– Антончик, можешь позвать ребят. Если хочешь.
– Как? А Ксюша?
– Мы поживём на кухне. Или погуляем.
И опять, как прежде, раз в неделю, во вторник, к нашему Роботрончику стали слетаться твои школьные приятели: поиграть в игры.
Кстати, ты и сам, научившись программировать, их сочиняешь. И твои игры пользуются не меньшим успехом, чем американские.
Знакомые поражаются: однокомнатная теснота, грудной младенец, а тут ещё и мальчишки приходят! Как это возможно? – Очень просто. На самом деле всё очень просто, если любишь. Если понимаешь: сыну это необходимо – чувствовать себя радушным хозяином, расставлять перед компьютером стулья: “Серёжа, садись. Садись, Коля. Сейчас ещё Олег придёт. Смотрите: я тут одну штуку новую придумал…”
Сушки, сухарики, азартный мальчишеский хохот… гора курток и башмаков в прихожей… Гавр, как всегда, не сможет открыть двери, вечером, когда вернётся с работы: “Полна коробушка? Ну, у вас тут весело!…” – “Папочка, мы ещё немножко поиграем?” – нежный, ломкий басок сына. Нет, не вижу никаких причин, из-за которых твои приятели перестали бы приходить в наш дом.
“А как тут Ксюня?” – “Ксюня замечательно. По-моему, ей очень нравится обитать на Антошином диванчике. Все картинки на стене рассмотрела, все книги на полке. А уж как она эту ветку традисканции изучала!… Минут двадцать смотрела, не отрываясь, и всё думала, думала…”
Между прочим, мальчишки полгода, наверное, не догадывались о Ксюне. Так тихо и сосредоточенно мы с ней жили в дни мальчишеских набегов…