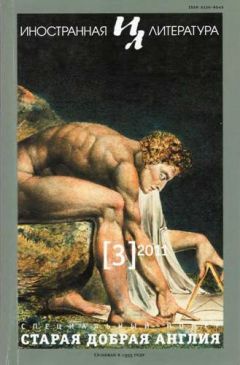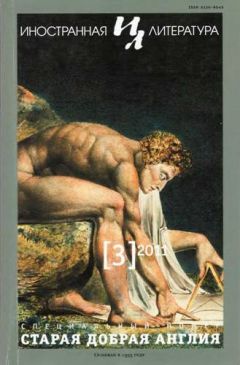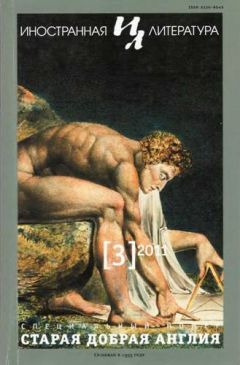принимают садизм, и это страшно; им не надо читать Крафт-Эбинга [26] или же знать, что это слово значит. Не сомневаюсь, Вальдемар инстинктивно улавливает связь между «злыми» госпожами в кожаных сапогах, что занимались своим ремеслом у «Торгового дома Запада» [27], и юными головорезами в нацистской униформе, сегодняшними гонителями евреев. Стоило госпоже в сапогах приметить потенциального клиента, как она хватала его, затаскивала в такси и увозила на порку. Разве парни из СА [28] не проделывают то же, только со своими клиентами? Просто поркой они увлекаются смертельной. Не было ли первое психологически генеральной репетицией последнего?
В отличие от Вальдемара, я думаю не о южном городе в конце пути, а о северном, который мы оставили. До недавних пор я и не задумывался, что мне придется покинуть Берлин, не верил, что нацисты правда придут к власти. Время от времени я, конечно, любил разлиться соловьем о вероятности рейхсверского путча и коммунистической революции, однако сам не считал ее серьезной. Я, наверное, даже готов был остаться в Берлине, лишь изредка наведываясь в Англию, где уже ощущаю себя немножечко иностранцем.
За проведенное в Берлине время я привык считать, что глубоко погрузился в политическую жизнь немцев. Письма в Англию писал сдержанным, раздражительным тоном военного корреспондента посреди сражения, мол, не отвлекайте меня. Приезжая же в Лондон, позволял относиться к себе как к знатоку ситуации в Германии, а на расспросы отвечал, начиная всегда одинаково: «Определенно, людям в этой стране надо кое-что уяснить…»
Но вот нацисты пришли к власти, и я вынужден признать, что политикой серьезно не интересовался и партизаном не был. В Берлин я прибыл безответственным искателем огонька. Проказником, что получил удовольствие в тот день на квартире Braut Вальдемара и захотел добавки. Однако позже, исследовав ночную жизнь Берлина вдоль и поперек, я начал уставать от нее и заделался пуританином. Жестоко критиковал порочных иностранцев, кто ехал сюда в поисках удовольствий, – они, мол, эксплуатируют голодающий рабочий класс Германии, обращая их в проституток. Негодовал я искренне и даже оправданно: когда видишь закулисье ночной жизни Берлина, она кажется тебе жалкой. Но изменился ли я внутри? Не остался ли столь же безответственным, раз бегу от такой ситуации? Не предатель ли я?
Не знаю. Не знаю. Не хочу думать обо всем этом сейчас. Чувство вины меня утомило, да и с какой стати я виноват?! Кто это решает? Нечего вешать на меня ответственность за Германию. У кого есть такое право? Нет, не стану я обсуждать эту тему. Слишком запутался. Чувствую себя комодом, в котором перемешались предметы одежды – надо их вытряхнуть и перебрать. Хватит уже говорить о том, как мне мыслить и что чувствовать. Надо отыскать некую первооснову истинного чувства и отталкиваться от него, и неважно, насколько оно мало.
Что мне по правде дорого? Прямо сейчас, если речь о любви, то, наверное, Вальдемар. Не сам Вальдемар, а то, что он собой представляет. Я настолько плотно отождествляю себя с ним, что даже это странствие вижу его глазами. Что я люблю в Вальдемаре, так это незамутненность и невинность его опыта; то, как он с чистым сердцем пускается в путь на поиски приключений. А еще я люблю его эгоизм и отсутствие чувства вины. Он не обременен совестью, заставляющей придерживаться позиций и мнений. Он очень свободен, уязвим и одинок. Я люблю его, но по-особенному, так, как любят животное. Я от него ничего не жду, лишь бы оставался молодым, бесстрашным и глупым. По сути, я хочу невозможного.
Мы едем вдоль долины Эльбы. Высоко, на неприступном с виду склоне скалы с видом на реку, красной краской намалеваны огромные серп и молот.
– Ого, – произнес Вальдемар, глянув на меня с задорной улыбкой, – да нацисты про все забудут, пока это счистят!
Это мое последнее воспоминание о Германии.
Ганс Шмидт встретил нас с поезда на железнодорожном вокзале в Афинах. Англичанин тоже пришел. Этих двоих я бы узнал и без подсказки Вальдемара, настолько они выделялись из толпы местных. Даже их жесты имели иной ритм.
Ганс обнял Вальдемара и по-свойски шлепнул его по заду.
– Servus [29], – сказал он, поглядывая на меня так, что я уже начал задумываться, что такого понарассказывал ему Вальдемар обо мне в письме.
– Как поживаете? – произнес англичанин.
Терпеть не могу выражение «вялое рукопожатие». Уж больно оно отдает моральным суждением предводителя скаутов. Скажу так: Амброз бегло, будто искусственную, вложил свою руку в мою и тут же отдернул.
– Рад, что вы сумели выбраться, – сказал он тоном хозяйки, что приветствует гостей на садовой вечеринке. И я сразу ощутил себя непринужденно.
Амброз выглядел одновременно моложе и старше меня. Стройный, он держался прямо, в его резких движениях чувствовалась моложавость, однако морщины на загорелой коже напоминали шрамы, оставленные когтями жизни. Лицо живописно обрамляли вьющиеся темные локоны с проседью, а в темно-карих глазах читалось выражение легкого удивления. В любой момент от Амброза стоило ожидать приступа нервозности; его чувственные ноздри и утонченные скулы наводили на мысль о скакуне, способном неожиданно сорваться в галоп. И все же где-то в самой глубине души угадывались задумчивость и покой. Это делало его трогательно-прекрасным. Прямо модель для портрета святого.
Он носил очень старый, но явно дорогой твидовый пиджак, стертые чуть ли не до дыр слаксы и пыльные, стоптанные замшевые туфли. Амброзу самому, как и его одежде, не помешала бы чистка, однако его внешний вид не вызывал отвращения. К тому же от него не исходило неприятного запаха. А ведь нюх у меня был – да и по сей день остается – очень острый.
Вместе с Гансом они отвезли нас на такси в отель, где остановились сами, и устроили в номер. Затем мы расположились снаружи в кафе напротив отеля и с видом на площадь. Амброз настоятельно советовал попробовать белое смоляное вино.
– Лучше вам к нему привыкнуть, – сказал он мне. – Кроме него, на острове обычно пить нечего.
Простота и готовность, с которой он решил, что я еду к нему на остров – пусть и ненадолго, – немного смущала. У меня уже было смутное ощущение, что ехать придется, но я-то ждал прелюдии, вежливой игры; я бы стал упираться, мол, что вы, что вы, не хочу доставлять неудобств, а он бы заверил меня: нет-нет, какие уж тут хлопоты! И почему-то Амброз проявил мало любопытства к моей персоне: он не расспросил, как прошла поездка, как там дела в Берлине. Похоже, ему вполне уютно было внутри собственного мирка; ну а коли ты удосужился заглянуть к нему – что ж, ладно, дело твое.
Как я уже сказал, в Амброзе ощущались покой и