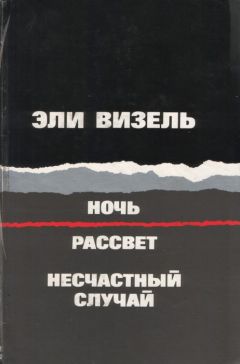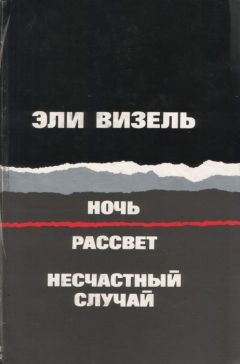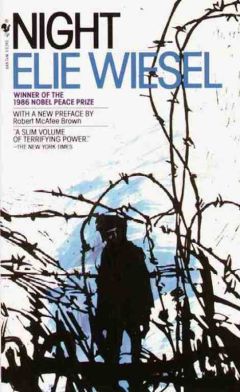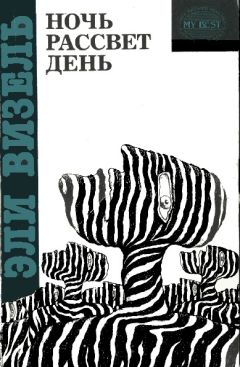Мне удалось за пайку хлеба поменяться местами с одним заключенным из отцовского блока. Днем пришел врач. Я сказал ему, что мой отец тяжело болен.
- Веди его сюда!
Я объяснил, что он не в силах ходить. Но врач ничего не хотел слушать. Кое-как я привел к нему отца. Врач внимательно посмотрел на него, потом сухо спросил:
- Что ты хочешь?
- Мой отец болен, - ответил я за него. - Дизентерия...
- Дизентерия? Это меня не касается. Я хирург. Идите! Освободите место для других!..
Протесты не помогли...
- Я больше не могу, сынок... Отведи меня обратно.
Я отвел его в блок и помог лечь. Его колотила лихорадка.
- Постарайся немножко поспать, папа. Попробуй уснуть...
Он дышал часто и трудно. Глаза были закрыты, но я знал, что он всё видит. Что теперь он видит истинную суть вещей.
В блок пришел еще один врач. Но отец не захотел вставать. Он понимал, что бесполезно.
Этот врач приходил единственно за тем, чтобы покончить с больными. Я слышал, как он орал, что они бездельники, что им просто хочется поваляться в постели... Я мечтал схватить его за горло, задушить. Но у меня уже не было ни смелости, ни сил. Я был прикован к умирающему отцу. Я до боли сжимал руки. Задушить врача и всех остальных! Сжечь весь мир! Убийцы отца! Но я совершал эти злодеяния только мысленно.
Вернувшись после раздачи хлеба, я обнаружил, что отец плачет, как ребенок:
- Сынок, они меня бьют!
- Кто?
Я думал, что он бредит.
- Вот этот, француз... И поляк... Они меня избили...
Еще один удар. Еще новая ненависть. И еще меньше хочется жить.
- Элиэзер... Элиэзер... Скажи им, чтобы они меня не били... Я им ничего не сделал... За что они меня бьют?
Я стал ругать его соседей. Они смеялись надо мной. Я пообещал им хлеба, супа. Они хохотали. Потом они разозлились: говорили, что больше не могут выносить отца, потому что он не в состоянии выходить по нужде наружу.
На следующий день он пожаловался, что у него отняли хлеб.
- Пока ты спал?
- Нет. Я не спал. Они набросились на меня. Они отняли мой хлеб... Они меня избили... Снова... Больше не могу, сынок... Воды...
Я знал, что ему нельзя пить. Но он так долго умолял меня, что я сдался. Вода была для него самым страшным ядом, но что еще я мог для него сделать? С водой или без воды, всё равно скоро наступит конец...
- Хоть ты-то меня пожалей...
Он просил, чтобы я его пожалел! Я, его единственный сын!
Так прошла неделя.
- Это твой отец? - спросил меня староста блока.
- Да.
- Он тяжело болен.
- Врач не хочет ничем ему помочь.
Он посмотрел мне в глаза.
- Врач не может ничем ему помочь. Как и ты.
Он положил мне на плечо свою тяжелую волосатую руку и добавил:
- Послушай меня внимательно, мальчик. Не забывай, что ты в концлагере. Здесь каждый должен бороться за свою жизнь и не думать больше ни о ком. Будь то даже твой отец. Здесь нет ни отцов, ни братьев, ни друзей. Каждый живет и умирает сам по себе, в одиночку. Вот тебе добрый совет: не отдавай больше свой хлеб и суп старику. Ты уже ничем не можешь ему помочь. А себя ты погубишь... Тебе бы следовало, наоборот, брать его пайку...
Я слушал его, не перебивая. Он прав, согласился я в глубине души, не решаясь самому себе в этом признаться.
Слишком поздно, отца уже не спасти, сказал я себе. Ты мог бы съедать две пайки хлеба, две порции супа.
Это продолжалось всего долю секунды, но я почувствовал себя виноватым. Я добыл немного супа и дал отцу. Но он ни за что не хотел его есть: он просил только воды.
- Не пей воды, поешь супа...
- Я изнемогаю... Почему ты такой жестокий, сынок?.. Воды...
Я принес ему воды. Потом вышел из блока на перекличку. Но тут же вернулся. Я лег на койку над отцовской. Больным разрешалось оставаться в блоке. Значит, я буду больным. Я не хотел оставлять отца.
Теперь вокруг стояла тишина, прерываемая лишь стонами. Перед блоком эсэсовцы отдавали приказания. Один из офицеров прошел между койками. Отец молил:
- Сынок, воды... Я горю... Внутри всё горит...
- Тихо там! - заорал офицер.
- Элиэзер, - повторял отец, - воды...
Офицер подошел к нему и закричал, приказывая молчать. Но отец его не слышал. Он продолжал звать меня. Офицер с силой ударил его дубинкой по голове.
Я не пошевелился. Я боялся. Мое тело боялось, что и его тоже ударят.
Отец издал еще хрип, и это было мое имя: "Элиэзер".
Я видел, что он всё еще дышит, хотя и с трудом. Я не пошевелился.
Когда я спустился вниз после переклички, его дрожащие губы продолжали что-то шептать. Я просидел больше часа, склонившись над ним, глядя на его окровавленное лицо и разбитую голову, чтобы навсегда запечатлеть их в своей памяти.
Потом пришло время ложиться спать. Я залез на свою койку, расположенную над отцовской. Он был еще жив. Это происходило 28 января 1945 года.
Я проснулся на рассвете 29 января. На месте отца лежал другой больной. Должно быть, отца забрали еще до рассвета и отправили в крематорий. Может быть, он еще дышал...
Над могилой отца не читали молитв. Не зажигали свечей в его память. Его последним словом было мое имя. Он звал меня, а я не откликнулся.
Я не мог плакать, и от этого мне было тяжело. Но слез уже не осталось. А если бы я тщательно пошарил в потаенных уголках своего затуманенного сознания, то, возможно, обнаружил бы там нечто вроде: наконец-то свободен!..
Глава IX.
Мне пришлось пробыть в Бухенвальде до 11 апреля. Не буду рассказывать о своей жизни в этот период. Она больше не имела значения. После смерти отца меня уже ничто не трогало.
Меня перевели в детский блок, где нас было шестьсот человек.
Фронт всё время приближался.
Я проводил все дни в полном безделье. Хотелось одного: есть. Я уже не думал ни об отце, ни о матери.
Иногда мне случалось мечтать. О ложке супа. О добавке.
5 апреля колесо Истории повернулось.
Близился вечер. Мы стояли внутри блока, ожидая, что придет эсэсовец нас пересчитывать. Он всё не шел. Таких задержек еще не случалось на памяти заключенных Бухенвальда. Видимо, что-то произошло.
Два часа спустя громкоговорители передали приказ коменданта лагеря: всем евреям явиться на сборный плац.
Конец! Гитлер собирался выполнить свое обещание.
Дети из нашего блока направились к плацу. Ничего другого не оставалось: Густав, староста блока, убедил нас в этом с помощью дубинки... Но по дороге мы встретили заключенных, которые нам шепнули:
- Возвращайтесь к себе в блок. Немцы хотят вас расстрелять. Возвращайтесь в блок и сидите тихо.
Мы вернулись. А по пути узнали, что организация сопротивления в Бухенвальде решила не бросать евреев и помешать их уничтожению.
Из-за позднего часа и полной неразберихи (многие евреи выдали себя за неевреев) комендант лагеря решил устроить общую перекличку на следующий день. Явиться должны были все.
Перекличка состоялась. Комендант объявил, что лагерь ликвидируется. Ежедневно будут эвакуировать по десять блоков. С этого момента нам уже не выдавали ни хлеба, ни супа. И началась эвакуация. Каждый день несколько тысяч заключенных выходили за ворота лагеря и больше не возвращались.
10 апреля нас оставалось в лагере еще тысяч двадцать, в том числе несколько сот детей. Было решено эвакуировать нас всех одновременно. Всё должно было закончиться вечером. Затем лагерь предполагалось взорвать.
И вот мы собрались на огромном лагерном плацу, построившись в колонны по пять и ожидая, когда откроются ворота. Внезапно завыли сирены. Тревога. Мы снова разошлись по блокам. Было слишком поздно, чтобы эвакуировать нас в тот же вечер. Эвакуацию перенесли на следующий день.
Нас мучил голод. Мы уже почти шесть дней ничего не ели, если не считать траву и картофельные очистки, найденные около кухни.
В десять утра эсэсовцы забегали по лагерю и принялись сгонять на плац свои последние жертвы.
Тогда участники сопротивления решили действовать. Неожиданно повсюду появились вооруженные люди. Автоматные очереди. Разрывы гранат. А мы, дети, лежали на полу в блоках.
Бой был коротким. К полудню опять стало тихо. Эсэсовцы бежали, а участники сопротивления взяли управление лагерем в свои руки.
Около пяти вечера у ворот Бухенвальда появился первый американский танк.
Став свободными людьми, мы прежде всего набросились на еду. Ни о чем другом мы не думали. Ни о мести, ни о родных. Только о хлебе.
И даже когда мы наелись, о мести никто не думал. На следующий день несколько молодых ребят отправились в Веймар в поисках картошки и одежды, а потом - к девицам. Но ни малейшей мысли о мщении.
Через три дня после освобождения Бухенвальда я тяжело заболел: это было пищевое отравление. Меня отправили в больницу, где я провел две недели между жизнью и смертью.
Однажды, собравшись с силами, я смог подняться. Мне хотелось посмотреться в зеркало, которое висело на стене напротив. Я не видел себя со времен гетто.
Из зеркала на меня глядел мертвец.