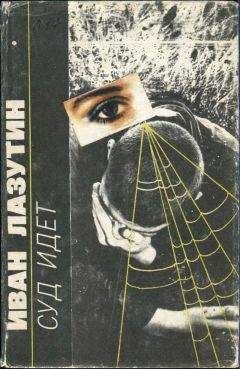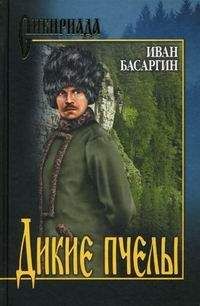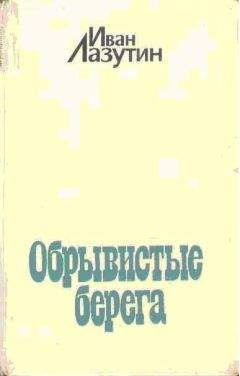Закончив историю о том, как он получил свой первый орден Красной Звезды, Дмитрий умолк и, осторожно привстав, поправил под головой подушку. Ему уже разрешили изредка вставать и ходить по палате.
Если во взгляде Вани пылал боевой восторг от того, как Шадрин с оружием, в полном обмундировании, под покровом ночи первым переплывал со своим взводом на вражеский берег Днепра, то в глазах Нины ютилась тихая жалость к Лене Чепуренко, первому весельчаку и любимцу взвода, который потонул в реке, раненный в голову на глазах у Шадрина.
— Дядя Митя, расскажите еще чего-нибудь. Мне это очень нужно.
— Зачем тебе это? — улыбнулся Шадрин.
— Я сочиняю рассказы, и их печатают в нашем детдомовском журнале, его выпускают старшие ребята. Я недавно сочинил один рассказ про разведчика, и он всем понравился.
— Как же ты сочиняешь, если сам не бывал на войне?
— А так. — Ваня замялся. — Вот прочитаю какую-нибудь книжку, а потом сам выдумываю, чтоб было складно и интересно. А еще мы играем во дворе в военную игру, я и про это пишу: как в плен попадают, как на расстрел ведут, как пытают разведчиков… Расскажите, пожалуйста, чего-нибудь еще!
Шадрин приподнялся на локтях.
— А ну, сбегай, Ваня, посмотри — нет ли там в коридоре няни или сестры? — Дмитрий кивнул на дверь, а сам, воровато озираясь, полез под подушку.
Лучанский, видя, что Шадрин разминает в пальцах папиросу, привстал с койки и вышел из палаты. Он всегда выходил в коридор, когда Шадрин или Бабкин тайком курили в палате.
Дмитрий сделал несколько крупных затяжек и разогнал дым рукой. В этом ему помогал и Ваня. Потушив окурок, Шадрин поудобнее улегся в кровати.
— Хотите, я расскажу вам, как однажды чуть не попал к немцам в плен?
Ваня всем телом подался вперед. Как гусенок, он вытянул свою детскую тонкую шею с голубоватой пульсирующей жилкой чуть ниже уха и грозно посмотрел на Нину, когда та закашлялась от табачного дыма.
— Тише ты! — угрожающе прошептал он в сторону Нины.
— Было это на Первом Белорусском фронте. Часть наша стояла недалеко от деревни Басюки. Собственно, это была уже не деревня, а пепелище. Одни закопченные печные трубы, головешки да заваленки — вот все, что осталось от деревни. Правда, церковь, как сейчас помню, сохранилась целехонька. Даже кресты позолоченные и те немцы не тронули. А может быть, с военной целью, чтобы пользоваться как ориентиром при пристрелке из орудий. Так вот, часть наша, как я уже сказал, только что вышла из тяжелых непрерывных боев потрепанная, усталая, с большими потерями. Позицию нашу занял тридцать первый пехотный гвардейский полк, а нас оттянули правее, там было потише. Во время этого затишья хотели пополнить полк наш людьми из резерва. Мы окопались у церквушки и думали, что денька два отдохнем. Днем немец изредка постреливал в нашу сторону, но мы не подавали вида, будто нас и нет. Курили в кулак, еду подносили траншеями, ползком, чтоб не заметил противник.
Помню, вылез я раз из окопа, раздвинул чуть-чуть кустики смородины — наша позиция проходила через сад — и вижу: метрах в трехстах на опушке леса пасется белая немецкая лошадь, хорошая породистая лошадь. Как она вышла на нейтральную линию, никто не заметил. Вгляделся пристально и вижу: к лошади короткими перебежками пробирается из лесу немецкий солдат. Лошадь была без узды и, видать, пугливая. Никак не подпускает к себе солдата, хотя была и спутанная. Как только тот привстанет и потянется с уздой к ее морде, она тут же встает на дыбы и шарахается в сторону. Вижу — измучился бедный солдат и совсем забыл, что гоняется за лошадью под самым носом у неприятеля. А неприятель этот, то есть мы, так залюбовался необычной для фронта картиной, что уже перестал рассматривать его сквозь прорезь прицельной рамки винтовки.
И ведь вот что меня больше всего удивило: никто из наших ребят не выстрелил, хотя многие видели немца и уже взяли на мушку.
Минут десять гонялся он за лошадью, пока наконец не поймал. А когда поймал, то так обрадовался, что вскочил на нее верхом и кинулся галопом прямо в лес. Ребята наши так и покатились со смеху. Особенно смешно было видеть, как он подпрыгивал на жирной спине лошади и, как крыльями, махал руками. Когда этот немец гонялся за лошадью, я попросил у командира взвода бинокль и как следует рассмотрел его.
Мне бросилась в глаза рыжая заплатка на спине его зеленого кителя, продолговатая белобрысая голова и большая родинка на правой щеке. Судя по погонам, это был унтер-офицер. С виду ему можно дать не больше двадцати лет. Посмеялись-посмеялись мы над немцем и забыли про него.
А вечером меня вызывает к себе командир взвода и говорит: только что разговаривал по телефону с командиром батальона, тот приказал немедленно, как только стемнеет, прислать солдата на передний наблюдательный пункт. Какое это будет задание, куда пошлют, что прикажут — я еще не догадывался. А на войне известное дело — приказ есть приказ. Взял я у командира на всякий случай карту местности, дождался темноты, вскинул автомат за спину, чтоб в случае, если придется ползти, не мешал бы под животом, и двинул в сторону переднего наблюдательного пункта, который располагался в ольшанике, под самым носом у немцев.
Ночь выдалась темная. А тут как на зло, шаг шагнешь — то яма, то старый окоп, то воронка. А самое противное, это то, что наступила удивительная тишина. Такая тишина, какую сроду не слышал. Чувствуешь даже, как бьется собственное сердце. А от командира получен строгий приказ: подползти к переднему наблюдательному пункту. По моим расчетам и по словам командира, от наших окопов до наблюдательного пункта было не больше километра. Вначале я полз по телефонному кабелю, на ощупь. Потом этот кабель свернул направо, я снова полз по нему. Потом свалился в глубокую воронку с водой, а когда вылез, то долго ползал по ее кромке и все никак не мог нащупать кабель. Потом наконец нашел, но чувствую, что кабель совсем другой, не наш: наш толстый, матерчатый, шероховатый, а этот — гладкий и тонкий — немецкий. Я растерялся.
Не знаю, куда ползти дальше. Из-за туч выглянула луна. Тут я оробел еще больше. Вдруг мне показалось, что светила она с другой стороны, не оттуда, где была раньше. Ну, думаю, попал как кур во щи! Хана, заблудился. А приказ нужно выполнять. А какой там приказ, когда впору хоть вставай и кричи во весь голос: «Ау-у-у!», как в детстве, когда за грибами ходил. Полежал-полежал, подумал-подумал и решил: поползу туда, куда лежу лицом, вперед. За ориентир взял луну. Но она тут же скрылась, и снова наступила темень. А тишина — как будто совсем оглох.
Прополз еще шагов сто — наткнулся на клубок колючей проволоки, насилу выпутался из нее и двинулся дальше, куда кривая выведет. А сам все думаю: «Не туда ползу, не туда… В плен ползу, как кролик, в пасть удаву!» Думаю, а сам все ползу. И вдруг показалось, что ползу я целую жизнь, и стало мне еще страшнее. Наткнулся на какие-то кусты. Откуда они — никак не могу понять. Днем этих кустов нигде не видал. Ну, думаю, так можно до самого Берлина доползти. Прилег в кустах и решил: будь что будет, дождусь рассвета, а там разберемся, куда я попал. И вдруг справа от меня и чуть сзади, шагах в десяти, раздалась немецкая речь: «Офицеры унд зольдаты! Офицеры унд зольдаты!..» И залопотал, и залопотал… Хоть и учился в школе немецкому языку, а здесь лежу, как сурок, к земле прижался и со страха ничего не понимаю.
Ну, думаю, попал, браток, отвоевался солдат Шадрин, сам заполз к немцам. Тут-то я и догадался, что переполз через нейтральную линию и попал на передний край к немцам. Ничего не сделаешь — нужно пятиться назад.
Пролежал так минут десять, даже дышал и то потихоньку. Вот в эти-то десять минут я, наверно, и начал седеть.
Шадрин потянулся было за папироской, но вошла няня и, заметив его намерение, погрозила пальцем.
— А дальше? Что было дальше, дядя Митя?
Шадрин с минуту помолчал, потом продолжал:
— Немцы предлагали русским солдатам сдаваться в плен. Обещали им манну небесную. Когда они закончили свою агитацию, я снова пополз, но теперь уже назад. А тут как назло, а может быть на счастье, стал погромыхивать гром. Вначале он слышался издалека, потом стал подкатываться все ближе и ближе. А хорошо все-таки услышать на войне гром! Он в тысячу раз милей, чем пушечная канонада. Прополз я метров двести, перевел дух и стал прислушиваться. Что-то слышу, а откуда — понять не могу. Но на душе вроде бы стало полегче. Показалось, что будто о свою землю опираюсь разодранными локтями. Тут пошел дождь. Да такой проливной, что сразу под руками вместо комьев земли и глины почувствовал грязь. Опять же думаю: «Может, этот дождичек к счастью?» Как только подумал об этом, так сразу же полетел вниз головой. Прямо в окоп. Стукнулся о котелок. Ощупал его в темноте — вижу, не наш, немецкий. Потом под руку попала фляжка. Тоже немецкая. Сердечко во мне так и екнуло: «Все! — думаю. — Заполз в немецкие окопы!» Тут я решил: если умирать, то подороже. Поставил автомат на боевой взвод и пополз по окопу, чтобы понять, куда я все-таки попал и что мне дальше делать? Слышу, по брустверу окопа идет человек и кричит что-то по-немецки. Тут-то уж никаких сомнений больше не осталось: я у немцев. Сразу вспомнил и мать, и братьев, и младшую сестренку… Чего только не передумал за эти несколько секунд. И стало так обидно, что я больше их никогда не увижу — ни родных, ни знакомых. А еще обиднее сделалось оттого, что утром, когда обнаружат во взводе, что солдат Шадрин безвестно пропал в перерыве между боями, — все подумают, что перешел к немцам. Напишут об этом родным, заклеймят, как изменника Родины, мать лишат военного пособия и опозорят на всю жизнь, что родила такого сына.