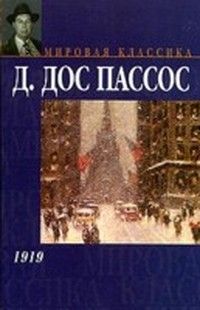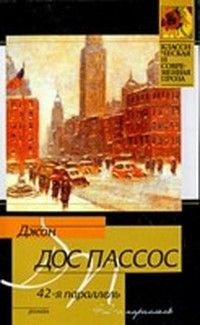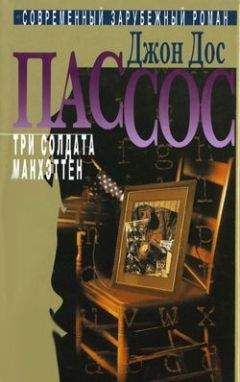- Давай-ка я погляжу на свидетельство, - сказал он усмехаясь.
Красновекие глаза цинготника увлажнились; он сказал, что все должны помогать друг другу и быть благодарны, если человек рискует своей шкурой, чтобы помочь ближнему. Потом он спросил Джо, как его зовут, сколько ему лет, где он родился, как давно плавает и так далее, и ушел в соседнюю комнату, заперев за собой дверь.
Джо стоял в прихожей. Где-то тикали часы. Тиканье становилось все медленнее и медленнее. Наконец Джо услышал щелканье замка, и цинготник появился с двумя бумагами в руках.
- Ты пойми, что я для тебя делаю, парень...
Джо взял одну бумагу. Он наморщил лоб и стал читать ее; она показалась ему вполне солидной. В другой бумаге было написано, что Морскому агентству Титтертона доверяется производить ежемесячные удержания из жалованья Джо, покуда не будет погашена сумма в десять фунтов.
- Послушай-ка, - сказал он, - ведь это выходит, я выкладываю семьдесят долларов.
Цинготник сказал, что зато какой он на себя риск берет, и какие нынче трудные времена, и, в конце концов, если он не хочет, может и не брать. Джо прошел за ним в комнату, где в беспорядке валялись всякие бумаги, нагнулся над письменным столом и подписал документ вечным пером.
Они сели в трамвай и сошли на улице Ривадавиа, Джо прошел за цинготником в маленькую контору, помещавшуюся за пакгаузом.
- Вот вам расторопный морячок, мастер Мак-Грегор, - сказал цинготник желчному на вид шотландцу, который расхаживал по комнате, кусая ногти.
Джо и мистер Мак-Грегор поглядели друг на друга.
- Американец?
- Да.
- Надеюсь, ты не рассчитываешь на американское жалованье?
Цинготник подошел к нему и что-то шепнул. Мак-Грегор посмотрел на книжку и, по-видимому, удовлетворился.
- Ладно, распишитесь в книге... Распишитесь вот тут, под последним именем.
Джо расписался и отдал цинготнику двадцать долларов. Он остался без гроша.
- Ну, счастливо оставаться, парень.
Джо поколебался, прежде чем подать ему руку.
- Пока, - сказал он.
- Сходи за своими вещами и явись через час, - хрипло сказал Мак-Грегор.
- Нет у меня никаких вещей. Я торчал на берегу, - сказал Джо, подкидывая на ладони сигарную коробку.
- Тогда подожди на дворе, я потом отведу тебя на "Аргайл".
Джо несколько секунд постоял на пороге, глядя на улицу. Ну его, осточертел ему Буэнос-Айрес. Он сел на ящик с клеймом "Тиббет и Тиббет, Эмалевая посуда, Блэкпул" и стал ждать мистера Мак-Грегора, размышляя, кто он - шкипер или помощник капитана. Да, немало времени пройдет, прежде чем он выберется из Буэнос-Айреса.
КАМЕРА-ОБСКУРА (28)
когда пришла телеграмма что она умирает (трамвайные колеса скрежетали вокруг стеклянного колпака как все грифели о все доски во всех школах) во время прогулки по берегу Пруда запах стоячей воды лапки вербы под режущим ветром грохот визгливых трамвайных колес по расхлябанным рельсам бостонских предместий скорбь не мундир сначала пустись во все тяжкие и выпей бокал вина за ужином у "Ленокса" прежде чем сесть в поезд
Я так устал от фиалок
Отнимите их у меня
когда пришла телеграмма что она умирает стеклянный колпак лопнул в скрежете грифелей (ты когда-нибудь спал в апреле хотя бы одну неделю?) и Он встретил меня на сером вокзале у меня болели глаза от киноварных бронзовых кроваво-зеленых чернил которые сочились из кружащихся апрельских холмов У Него были белые усы усталые обвисшие старческие щеки Ее нет больше Джек скорбь не мундир в гостиной восковый аромат лилий в гостиной (Он и я мы оба будем хоронить мундир скорби)
потом запах реки сверкающий Потомак догоняет маленькие чешуйчато-серебряные волны у Головы индейца на кладбище пели дрозды и обочины дороги дымились весной Столько апреля не выдержит мир.
когда пришла каблограмма что Он умер я ходил по улицам переполненным пятичасовой мадридской толпой закипающими сумерками в надтреснутых граненых стаканах агвардиентэ красного вина газовофонарной зелени солнцезакатного багрянца черепичнокрышей охры губы глаза красные щеки коричневая колонна горла сел на Северном вокзале в ночной поезд сам не зная зачем
Я так устал от фиалок
Отнимите их у меня
разбитый радужно переливающийся стеклянный колпак старательно скопированные бюсты архитектурные детали грамматика стилей
это был конец книги и я оставил Оксфордское издание классиков в маленькой комнате пахнувшей прогорклым оливковым маслом в Бостонском пансионе Ahora теперь обретет vita nuova но мы
которые слушали дивный голос читавшего вслух Копи и читали чудесно переплетенные книжки и глубоко вдыхали (дыши глубже раз два три четыре) аромат восковых лилий и искусственных пармских фиалок под эфирной маской и завтракали в библиотеке где бюст был Октавия (*2)
мы теперь лежим мертвые в телеграфной конторе
На громыхающей деревянной скамейке в поезде ползущем в ночь поскорей бы с нижней палубы наверх вдохнуть чуточку Атлантики на ныряющем пароходе (я подружился с овальнолицей швейцаркой и ее мужем) глаза у нее были слегка навыкате и она грубовато говорила Zut alors [прекрати (франц.)] и роняла нам улыбку-рыбку морскому льву согревавшую наш мрак когда чиновник иммиграционного ведомства пришел за ее паспортом он не смог отправить ее на Эллис-Айленд la grippe espaguole [испанка (франц.)] она была мертва
мыть окна
штрафной батальон
скрести зажигательные свечи карманным ножом
уклоняющийся от воинской повинности
розы Американская Красавица растерты в пыль в постели шлюхи (туманная ночь пылала прокламациями Лиги прав человека) миндальный запах рвущихся снарядов посылающих певучие eclats [осколки (франц.)] в сладковатую тошнотную вздутость гниющих трупов
завтра надеялся я первый день первого месяца первого года
ШАЛУН
Джек Рид был сыном шерифа Соединенных Штатов, видного гражданина города Портленда, в Орегоне.
Он был даровитый мальчик,
и поэтому родители отправили его в школу на Восток
и в Гарвард.
Гарвард культивировал открытое "а" и знакомства, которые могут принести пользу в будущем, и хорошую английскую прозу... Кого Гарвард не исправит, тот уже не исправится,
и все Лоуэллы говорят только с Кэботами (*3), а Кэботы только...
и Оксфордское издание классиков.
Рид был даровитым юношей, он не был ни социалистом, ни евреем, ни из Роксбери родом; он был силен, жаден, имел аппетит ко всему: мужчина должен любить многое в жизни.
Рид был мужчиной; он любил мужчин, он любил женщин, он любил есть и писать, и туманные ночи и выпивку, и туманные ночи, и плавание, и футбол, и рифмованные стихи, и кричать "ура", произносить тосты, основывать клубы (не очень шикарные клубы, кровь в его жилах была недостаточно жидка для очень шикарных клубов)
и голос Копи, читающего "Человека, который хотел быть королем", умирающую осень, "Погребение в урне", хорошую английскую прозу, фонари, вспыхивающие в университетском общежитии под вязами в сумерки,
невнятные голоса в аудиториях,
умирающую осень, вязы, Дискобола, кирпичи древних зданий, и мемориальную арку, и уборщиц, и деканов, и доцентов, тонкими голосами подхватывающих припев,
припев; ржавая машина скрипела, деканы тряслись под своими академическими шапочками, зубчатое колесо довертелось до Выпускного Акта, и Рид вышел в мир:
Вашингтон-сквер!
"Приличия" оказались ругательством;
Вийон искал пристанища на ночь в итальянских казарменных домах на Салливэн-стрит,
научные исследования установили, что Р.Л.С. (*4) был отчаянным кутилой и бабником,
а что касается елизаветинцев,
ну их ко всем чертям.
Сядь на пароход для скота и погляди на мир, поищи приключений, чтобы было о чем рассказать по вечерам; мужчина должен любить... учащенный пульс ощущение что сегодня туманными вечерами шаги такса, глаза женщин... многое в жизни.
Европа, приправленная хреном, глотай Париж, как устрицу;
но тут есть еще кое-что, помимо оксфордского издания английских классиков. Линк Стеффенс (*5) говорил о кооперативной республике;
революция в голосе мелодичном как голос Копи, Диоген Стеффенс с Марксом вместо фонаря ходил но западу и искал человека, Сократ Стеффенс не переставал спрашивать: почему бы не революция?
Джек Рид хотел жить в бочке и писать стихи;
но он продолжал встречаться с бродягами, рабочими, дюжими ребятами, которых он любил, обездоленных, безработных, почему бы не революция?
Он не мог заниматься своим делом, когда в мире столько обездоленных;
не он ли выучил в школе наизусть Декларацию независимости? Рид был уроженцем Запада, и что он говорил, то он и думал; когда он говорил у стойки Гарвардского клуба с однокурсниками, он думал то, что говорил, от пяток до волнистых, растрепанных волос (кровь в его жилах была недостаточно жидка для Гарвардского клуба и Голландского клуба и респектабельной нью-йоркской богемы).
Жизнь, свобода и стремление к счастью (*6);