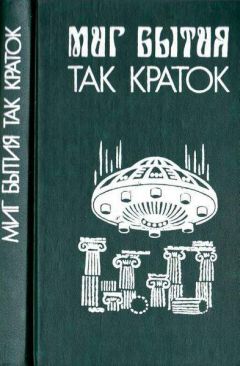Немного поколебавшись, я все же решил не отказываться от поездки в Вену. Снова телефонные переговоры, объяснения, извинения, перенос сроков. Снова покупка билетов; билеты я опять же прошу с обозначением места. Зря вы это, говорит кассирша, поезд в Вену ходит полупустой. Но я хочу ехать без забот, ни о чем не тревожась, застрахованный от любых случайностей. Лишние расходы меня в ту минуту не беспокоят; с расходами я успел как-то свыкнуться. Поездку эту я готовлю себе как подарок; как сюрприз, который я, щедрый друг с благотворительными порывами, преподнесу себе самому. Я люблю путешествовать; в сущности, только путешествовать я и люблю. Я тоже хорошо езжу и плохо приезжаю, как говорит про себя Бернгард. В ящике моего стола тихо лежат четыре тысячи шиллингов; если у меня есть друзья, которых я могу величать "своими преданными читателями", они должны знать, конечно, что два с половиной года тому назад, то есть в 1989-м, я выхлопотал себе небольшую стипендию на четыре недели пребывания в Вене; сейчас я могу признаться "преданным читателям", что тогда мне и удалось сэкономить эти четыре тысячи; тогда же я получил какую-то бумагу - то ли разрешение, то ли еще что - на право владения валютой, в чеках и наличными; вообще-то я ничего в этих делах не смыслю: как только мне на глаза попадают какие-нибудь параграфы и статьи закона, я засыпаю в ту же секунду; засыпаю с тем большей поспешностью, что в стране, где мне выпало жить, все статьи закона, все параграфы всегда, с самого моего рождения, направлены против меня - часто против самого факта моего физического существования, - а в тех случаях, когда по замыслу своему они вроде бы должны меня защищать, каждый раз оказывается, что их тоже можно обратить против меня; так с какой, собственно, стати мне их изучать? Короче говоря, эти четыре тысячи (4000) шиллингов, хранившиеся у меня аж с 1989 года, я просто сунул в карман. В конце концов, в Вену я еду не для того, чтобы экономить там каждый грош: если, приехав, увижу в программе Концертхауса или Музикферейнзаала какой-нибудь достойный внимания концерт, то куплю билет и пойду на концерт; если захочу поужинать, пойду в ресторан и поужинаю, ну и так далее.
Неправильно было бы опустить в настоящем протоколе еще один момент: накануне отъезда у меня звонит телефон, и один мой знакомый, человек очень любезный - в самом чистом и благородном смысле этого слова - спрашивает, не хочу ли я послушать "Реквием" Верди: у него как раз один лишний билет. Так что вечером того же дня - накануне отъезда - я еще слушал в Оперном театре "Реквием" Верди, и, когда шел домой, в голове у меня гремели божественные аккорды "Libera me Domine de morte aeterna"1, а в душе, как всегда, потрясение боролось с сомнением: я во всем готов склонить голову перед высокими истинами, но с мыслью о грядущем воскресении по сей день не могу примириться. "Тогда я и умирать не желаю", - как якобы сказал Марат.
Однако не это стало причиной, что в ту ночь я глаз не сомкнул, - не Верди, а обычный мандраж, который одолевает меня перед любой дальней дорогой, что-то вроде детского невроза, который преследует меня едва ли не с младенческих лет и в зрелом, даже, можно сказать, перезрелом возрасте снова и снова превращает меня в ребенка; я ничего не могу поделать с ним, хотя упорно ему сопротивляюсь - как такому проявлению инфантильности, на котором в конце концов ловлю себя; повторяю, против невроза этого я совершенно беспомощен - а уж что говорить о тех формах инфантильности, что, подобно скрытому яду, вновь и вновь завладевают мной, подчиняя себе весь организм, вроде алкоголя или какого-нибудь наркотика, без которого ты не можешь обойтись.
Ложась спать, я позвонил в телефонную службу и попросил разбудить меня в половине пятого - но в четыре был уже на ногах. Терпеть не могу вставать рано; но если уж приходится, то встаю еще раньше. Жена, бедняжка, с трудом разлепив глаза, готовит мне завтрак и бутерброды в дорогу. Апельсин. Шоколад. Восточный вокзал; я словно попадаю на берега Ганга, на какой-нибудь индуистский праздник. Нищие с черными, словно обугленными, ногами; орущие торговцы; липкие, исподлобья, взгляды алкашей. Я торопливо бегу мимо, оберегая, прижимая к себе висящую на плече дорожную сумку; я не смею остановиться даже на миг, никому ничего не подаю, ни у кого ничего не покупаю; я никому не верю, нет во мне любви к ближнему. Поезд уже у перрона; вот мой вагон, номер - вот он у меня в билете; вот мое место у окна, номер - вот он у меня в билете. Кажется, все в порядке. В вагоне работает отопление. Места рядом со мной свободны; я радуюсь, что никого рядом нет, нет во мне любви к ближнему. Я вытаскиваю взятые в дорогу газеты. Новости, сообщаемые в них, вызывают у меня отвращение. В передовице, пожалуй, чувствуется некоторая нравственная позиция, но это лишь усугубляет ситуацию. Быть нравственным в безнравственном мире - тоже безнравственность. Где выход? Не знаю. Сложив газету, засовываю ее в карман пустого сиденья передо мной. Беру журнал "2000". Пробежав глазами содержание, чувствую: если что-то мне и будет тут интересно, то это, скорее всего, дневник Дали. "Diary of a Genius". "Дневник гения"... Нет, нет, преувеличения я тут не вижу, с названием я согласен, хотя, может быть, оно и слегка претенциозно; в первых же фразах меня валит с ног, подминает странная смесь гениальности, ребяческой беззастенчивости и хвастовства; в удушливой атмосфере этой мне удается вдохнуть глоток воздуха лишь в тех небольших просветах, которые представляют собой попадающиеся кое-где в тексте вкрапления лжи. Быстрая, разочаровывающая ассоциация: мой собственный дневник. Какое бишь я дал ему название? "Дневник галерника". Если отбросить всякие характеристики и попытки сопоставления масштабности, то человек, окажись он и в самом деле гением, может себя чувствовать здесь разве что виноватым; но кому на этом восточноевропейском полушарии придет в голову считать себе гением? Разве что - антигениям: массовым убийцам да узурпаторам.
Даже через закрытое окно в вагон вдруг проникает облако вони: своего рода атмосферная иллюстрация к эсхатологическим мотивам, трактуемым в тексте; я отрываюсь от страниц журнала: поезд едет мимо Татабани. Гиблый, вспоротый вдоль и поперек, голый, апокалиптический ландшафт, коптящие небо бетонные колоссы, трубы, строительные леса, наискось располосовавшие небо, словно штрихи, твердой рукой вычеркивающие то ли кусок текста, то ли кусок бытия; всюду ничем не прикрытое потребительство, бесстыдная целесообразность, рациональность, равнодушие к красоте, die Wuste wachst2, отвечаю я Дали, пейзаж, в котором нет природы, он даже не ужасен, он лишь безутешен, как правда. Паспорт у меня проверили раньше, сейчас вагон оккупируют люди в серой таможенной униформе. Один из них, быстрый в движениях, смуглый, черноволосый, подходит ко мне. Венгерская таможня, говорит он. Нейтральным голосом, скромно, словно не придавая своей персоне никакого значения, просит показать паспорт. И все же, когда я встаю, чтобы снова достать паспорт из внутреннего кармана моего кожаного жилета, висящего на крючке, в голове у меня, совершенно необъяснимо, без всякой причины - вот так, без всякой причины, светит на небе солнце, - проносится мысль: в этом человеке нет любви к ближнему. Возможно, это еще влияние дневника Дали - странное ощущение, охватившее вдруг мою нарциссическую, вечно жаждущую любви душу, душу ребенка и художника, ставшую в этот момент беззащитной и безмерно чувствительной. Таможенник, по всей видимости, со мной закончил; закрыв паспорт, он уже готов вернуть его мне - однако тут, тем же нейтральным голосом, но как-то очень поспешно, так что лишь мой, обострившийся на Сальвадоре Дали слух улавливает в его голосе какой-то коварный оттенок, спрашивает, сколько валюты (или девизы: разницу между двумя этими понятиями я, по всей вероятности, никогда не усвою) я "вывожу" - буквально так. Тысячу шиллингов, почему-то отвечаю я без колебаний. Таможенник реагирует на это удивительным образом. "Много, много, много", шепотом повторяет он трижды, как бы сам себе (так в старых пьесах произносились реплики "в сторону"). Почему? - удивляюсь я. Он отвечает: потому, что сумма "выходит за разрешенный лимит" - чего-то, что я не успеваю точно понять. Ну хорошо, покажите эту тысячу шиллингов, просит он. Мною начинает овладевать странное состояние спокойной уверенности, которое прекрасно знакомо мне по богатому - во всяком случае, в этом отношении жизненному опыту: будто я в каком-то смысле покидаю место действия и все, что сейчас происходит, происходит уже не со мной. В таком состоянии ты спокоен и полон беззаветной покорности. Той покорности, с какой человек движется к роковой развязке, испытывая бесконечное доверие к моменту, к каждой детали, к каждому, даже самому незаметному движению, но в то же время про себя твердо зная - и, может быть, даже не жалея об этом, - что приближение рока неотвратимо. Лишь в одном тебя не щадят остатки того ясного видения, которое в такой ситуации как бы заменяет твое собственное присутствие: ты со всей четкостью сознаешь, что становишься частью какой-то механической несуразицы, которая - ты уверен - абсолютно чужда тебе, чужда твоей сокровенной сущности, и это тебя все время немного смущает, но ты совершенно бессилен остановить этот самостоятельно работающий механизм; вот так человек не способен справиться с диафрагмой, которая сама по себе начинает трястись, когда он смотрит на какие-нибудь идиотские выходки дешевого ярмарочного клоуна.