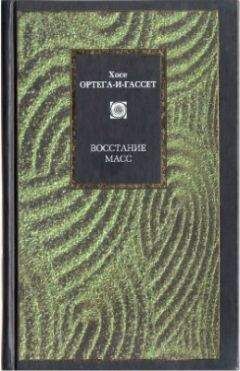Любой другой пример подтвердит наше наблюдение. В случаях вроде "ходьбы" внешнее значение кажется первоначальным и более ясным. Не будем сейчас доискиваться, почему это именно так. Достаточно оговорить, что, напротив, почти все глаголы характеризуются первоначальным и очевидным значением, которое они имеют в первом лице. "Я хочу, я ненавижу, я чувствую боль". Чужая боль и чужая ненависть - кто их чувствовал? Мы только видим перекошенное лицо, испепеляющие глаза. Что в этих внешних признаках общего с тем, что я нахожу в себе, когда переживаю ненависть и боль?
Думаю, что теперь уже ясна дистанция между "я" и любой другой вещью, будь то бездыханное тело, или "ты", или "он". Как нам выразить в общей форме различие между образом или понятием боли и болью как чувством, как болением? Образ боли не болит, даже больше того, отдаляет от нас боль, заменяет ее идеальной тенью. И наоборот, болящая боль противоположна своему образу,- в тот момент, когда она становится образом самой себя, у нас перестает болеть.
"Я" означает, следовательно, не этого человека в отличие от другого или тем менее - человека в отличие от вещи, но все - людей, вещи, ситуации - в процессе бытия, осуществляющих себя, обнаруживающих себя. Каждый из нас, согласно этому, "я" не потому, что принадлежит к привилегированному зоологическому виду, наделенному проекционным аппаратом, именуемым сознанием, но просто потому, что является чем-то. Эта шкатулка из красной кожи, которая стоит передо мной на столе, не есть "я", потому что она только мое представление, образ, а быть представлением - значит как раз не быть тем, что представляется. То же отличие, что между болью, о которой мне говорят, и болью, которую я чувствую, существует между красным цветом кожи, увиденным мною, и бытием красной кожи для этой шкатулки. Для нее быть красной означает то же, что для меня - чувствовать боль. Как есть "я" имярек, так есть "я" - красный, "я" - вода, "я" - звезда.
Все увиденное изнутри самого себя есть "я".
Теперь ясно, почему мы не можем находиться в позиции использующего по отношению к "я": просто потому, что мы не можем поставить себя лицом к лицу с "я", потому, что нерасторжимо то полное взаимопроникновение, в котором находятся элементы нашего внутреннего мира.
3. "Я" И МОЕ "Я"
Все увиденное изнутри меня самого есть "я".
Эта фраза послужит лишь мостиком к верному пониманию нужной нам сути. Строго говоря, эта фраза не точна.
Когда я чувствую боль, когда я люблю и ненавижу,- я не вижу своей боли, не вижу себя любящим и ненавидящим. Чтобы я увидел мою боль, нужно, чтобы я прервал состояние боления и превратился бы в "я" смотрящее. Это "я", которое видит другого в состоянии боления, и есть теперь подлинное "я", настоящее, действующее. "Я" болящее, если говорить точно, было, а теперь оно только образ, вещь, объект, находящийся передо мной.
Так мы подходим к последней ступеньке анализа: "я" - это не человек в противоположность вещи; "я" - не "этот" человек в противоположность человеку "ты" или человеку "он"; "я", наконец,- не тот "я самый", me ipsum, которого я стараюсь узнать, когда следую дельфийскому правилу "Познай самого себя".[5] Я вижу восходящим над горизонтом и поднимающимся, подобно золотой амфоре, над рассветными облаками не солнце, но лишь образ солнца. Точно так же "я", которое мне кажется тесно слитым со мной, всецело принадлежащим мне, есть только образ моего "я".
Здесь не место объявлять войну первородному греху современной эпохи, который, как всякий первородный грех, был необходимым условием немалочисленных достоинств и побед. Я имею в виду субъективизм, духовную болезнь эпохи, начавшейся с Возрождения. Болезнь эта состоит в предположении, что самое близкое мне - мое "я", то есть самое близкое для моего познания - это моя реальность и "я" как реальность. Фихте, который был прежде всего и более всего человеком преувеличений, преувеличений на уровне гениальности, довел до высшего градуса эту субъективистскую лихорадку.[6] Под его влиянием прошла целая эпоха, в утренние часы которой, когда-то, в германских аудиториях с такой же легкостью вытаскивали мир "я", как вытаскивают платок из кармана. Но после того, как Фихте начал нисхождение субъективизма, и возможно, даже в эти самые минуты замаячили смутные очертания берега, то есть нового способа мышления, свободного от этой заботы.
Это "я", которое мои сограждане именуют имяреком и которое есть я сам, скрывает на деле столько же секретов от меня, как и от других. И наоборот, о других людях и о вещах у меня не менее прямые сведения, чем обо мне самом. Как луна показывает мне лишь свое бледное звездное плечо, так и мое "я" только прохожий, который проходит перед моими глазами, позволяя рассмотреть лишь спину, окутанную тканью плаща.
"Далеко от слова до дела", говорится в народе. И Ницше сказал: "Легко думать, но трудно быть". Это расстояние от слова до дела, от мысли о чем-то до бытия чем-то как раз и есть то самое, что разделяет вещь и "я".
4. ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ
Теперь мы добрались до следующей жесткой дилеммы: мы не можем сделать объектом нашего понимания, не можем заставить существовать для нас предмет, если не превратим его в образ, в концепцию, в идею, иными словами, если он не перестанет быть тем, что он есть, и не превратится в тень, в схему самого себя. Только с одной вещью вступаем мы во внутреннюю связь - с нашей индивидуальностью, нашей жизнью,- но и эта интимность, превращаясь в образ, перестает быть подлинной. Когда я написал, что "я иду" указывает на ходьбу, увиденную в ее внутреннем содержании, я утверждал нечто весьма относительное, поскольку образ передвижения тела в пространстве - это образ моих чувств и ощущений. Но подлинная, осуществляющаяся ходьба равно удалена как от образа внешнего, так и от образа внутреннего.
Внутреннее не может быть объектом ни нашей науки, ни практического мышления, ни искусственного воспроизведения. И все же именно оно подлинная сущность вещи, единственно нужное и полностью удовлетворяющее наше созерцание. Не будем углубляться в вопрос, возможно ли с точки зрения разума, а если возможно, то каким образом сделать объектом нашего созерцания то, что кажется обреченным никогда не превращаться в объект. Это завело бы нас слишком далеко в дебри метафизики. Остановимся и поглядим внимательно на произведение искусства - например, на "Задумчивого" , божественно спокойного под холодным светом капеллы Медичи. И спросим себя, что же это такое, что в конечном счете стало тут поводом, объектом и темой нашего созерцания.
Это ведь не глыба мрамора как образ действительности. Ведь, поскольку мы можем вызвать в памяти все его детали, нам вовсе не важно его материальное существование. Сознание реальности этого мраморного тела никак не участвует в нашем эстетическом переживании, или, вернее сказать, участвует только как средство почувствовать, что это чисто воображаемый объект, который мы можем полностью перенести в нашу фантазию.
Но и не фантастический предмет становится эстетическим предметом. Фантастический предмет ничем, собственно, не отличается от реального предмета: различие между ними сводится к тому, что одну и ту же вещь мы представляем себе как существующую либо как не существующую в действительности. Но "Задумчивый" - это новый объект, качественно несравнимый с предметом нашей фантазии. Он начинается там, где кончается всякий образ. Не белизна мрамора, не линии и формы, но то, о чем говорит все это и что вдруг оказывается перед нами в такой полноте своей, какую мы можем обозначить лишь словами: абсолютное присутствие.
В чем же различие между зрительным образом думающего человека, на которого мы смотрим, и раздумьем "Задумчивого"? Зрительный образ действует на нас как повествование, сообщает нам, что вон там, у нас на виду, кто-то думает; всегда сохраняется дистанция между тем, что дает нам образ, и тем, на что этот образ указывает. Но в "Задумчивом" осуществляется самый акт раздумья. Мы присутствуем при том, при чем никогда не могли бы присутствовать иным способом.
Ошибочной и банальной является трактовка, которую дает один современный эстетик тому особому способу познания предмета, которым располагает искусство. Согласно Липпсу, я проецирую мое "я" в отшлифованный кусок мрамора, и внутренняя жизнь "Задумчивого" есть как бы маскарад моей. Это явно ложно: я полностью отдаю себе отчет, что "Задумчивый" - это он, а не я, это его "я", а не мое.
Ошибка Липпса - последствие того субъективистского зуда, о котором я уже говорил. Как будто эта несравненная прозрачность эстетического предмета открывает для меня - вне искусства - мое "я"! Не в интроспекции, не созерцая самого себя, я нахожу интимность раздумья, а в этом мраморном гиганте. Самое ложное - предполагать в искусстве подземелья внутренней жизни, метод сообщения другим того, что происходит в нашем духовном подполье. Для этого существует язык, но язык только указывает на внутреннюю жизнь предмета, не представляет ее.