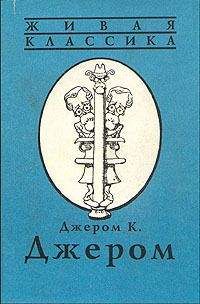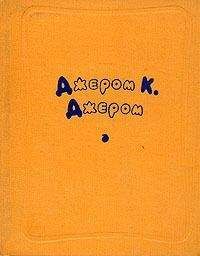Что касается верности суждений и знания жизни, здесь собаки невинные дети по сравнению с кошками. Пробовали вы, сэр, плести какую-нибудь небылицу в присутствии кошек?»
Я отвечал, что кошки часто присутствовали при том, как я рассказывал всякие анекдотические случаи, но что до сих пор я не обращал особого внимания на их поведение.
«Тогда непременно воспользуйтесь первым же случаем, сэр! – воскликнул старик. – Право, вы не пожалеете. Если вы начнете рассказывать какую-нибудь историю в присутствии кошки и она не станет выражать беспокойства во время вашего повествования, можете быть уверены, что напали на сюжет, о котором можете спокойно говорить в присутствии председателя верховного суда Англии».
«Есть у меня однокашник, – продолжал старик, – зовут его Вильям Куули. Мы всегда зовем его Правдивый Биль. Он лучший из моряков, когда-либо ступавших по палубе, но, когда он начинает плести всякие истории, я не посоветовал бы вам верить его словам. Так вот, у Биля был пес, и я видел, как Биль в присутствии этого пса рассказывал такое, что у кошки вылезли бы глаза на лоб, а пес принимал все на веру. Как-то вечером у себя дома Биль рассказывал нам такую бородатую историю, что по сравнению с нею кусок солонины, совершивший два кругосветных путешествия, сошел бы за цыпленка. Я наблюдал за псом, чтобы увидеть, как он будет реагировать. Пес слушал от начала до конца, насторожив уши, и за все время даже глазом не повел. Время от времени он осматривал присутствующих с выражением удивления или восторга и, казалось, говорил: «Замечательно, не правда ли! Подумать только! Слыхали вы когда-нибудь что-либо подобное? Вот это здорово!» Он был на диво глупый пес; ему можно было рассказывать все что угодно.
Меня злило, что возле Биля торчит животное, которое потакает ему во всем, и, когда он умолк, я сказал:
«Хочется мне, чтобы ты как-нибудь повторил эту историю у меня дома».
«Зачем?» – спросил Биль. «Просто так. Хочется, и все тут», – говорю я..
Я не сказал ему, что желаю, чтобы моя старая кошка послушала его рассказы.
«Ладно, – сказал Биль, – напомни мне при случае». Он любил рассказывать, этот Биль.
Через день он заявляется, так сказать, в мою каюту и располагается поудобнее. Ну, и я поступаю так же. И тут он начал. Нас было человек шесть, а кошка сидела перед огнем и занималась своим туалетом. Биль еще не успел распустить все паруса, как она перестала умываться и взглянула на меня с удивлением, словно желая сказать:
«Это что еще за миссионер объявился?» Я знаком предложил ей сохранять спокойствие, и Биль продолжал свою историю. Когда он добрался до случая с акулами, кошка демонстративно повернулась и поглядела на него. Уверяю вас, ее лицо выражало такое отвращение, что, взглянув на него, даже бродячий торговец провалился бы от стыда. В этот миг кошка так походила на человека, что, клянусь вам, сэр, я позабыл, что бедное животное не в состоянии говорить; я видел собственными глазами, как на ее губы просились слова: «Почему же ты не скажешь, что ты самолично проглотил якорь? Говори, не стесняйся!» Я сидел как на иголках, боясь, что она выскажет это вслух. Я вздохнул с облегчением, когда она повернулась к Билю спиной.
Несколько минут она сидела неподвижно, и видно было, что в ней происходит внутренняя борьба. Мне никогда не приходилось видеть кошку, которая до такой степени владела бы собой или умела молча переносить страдания. При виде ее у меня просто сердце разрывалось.
Наконец Биль добрался до того места, когда он и капитан открывают акуле пасть, а юнга ныряет туда головой вперед и достает – золотые часы с цепочкой, которые были на боцмане, когда тот свалился за борт. И тут старая кошка издала вопль и повалилась на бок, задрав лапы в воздух.
Я было подумал, что бедняжка скончалась, но спустя некоторое время она пришла в себя и стало ясно, что она хотела собраться с силами, чтобы дослушать до конца.
Однако вскоре Биль ляпнул нечто такое, чего она не могла стерпеть, и на этот раз ей пришлось сдаться. Она поднялась и оглядела нас. «Простите меня, джентльмены, – сказала она, по крайней мере сказала взглядом, если вообще взгляд способен говорить что-нибудь, – возможно, что вы привычны к подобной брехне и она не действует вам на нервы. Со мною дело обстоит иначе. Я вдоволь наслушалась речей этого болвана, и больше мой организм не в состоянии выдержать, так что, с вашего разрешения, я уйду, пока меня не начало тошнить».
Тут кошка направилась к выходу, я распахнул перед ней дверь, и она ушла.
Вам не удастся одурачить кошку пустой болтовней, как какую-нибудь собаку, нет, сэр!»
Может ли человек измениться к лучшему? Бальзак утверждает, что не может. В меру моего собственного опыта я согласен с мнением Бальзака, факт, из которого поклонники этого писателя вольны делать какие угодно выводы.
Мы обсуждали этот вопрос применительно к нашему герою. Браун высказал оригинальную мысль, которая позволила подойти к теме по-новому: он предложил сделать нашего героя законченным мерзавцем.
Джефсон стал вторить Брауну, утверждая, что это предложение позволит нам создать подлинно художественный образ. Он придерживался того мнения, что нам легче описать злодея, чем пытаться дать портрет порядочного человека.
Мак-Шонесси поддакнул Джефсону и тоже поддержал это предложение. Ему, по его словам, надоели «неизменно фигурирующие в романах молодые люди с кристально чистым сердцем и благородным образом мыслей. Кроме того, не надо писать специально «для юношества»: у молодых людей создается превратное представление о жизни, и они переживают разочарование, узнав человечество таким, каково оно есть на самом деле.
Потом Мак-Шонесси принялся излагать нам свое представление о герое, о последнем я могу только сказать, что не хотел бы встретиться с ним с глазу на глаз темной ночью.
Браун, единственный из нас троих, кто принимал все всерьез, попросил нас сохранять благоразумие и напомнил (не в первый раз и, быть может, не без оснований), что целью наших встреч было обсуждать дело, а не болтать глупости.
Получив нагоняй, мы не шутя принялись за дело. Предложение Брауна заключалось в том, что наш герой должен быть отпетым негодяем примерно до середины книги, когда произойдет некое событие, в результате которого он в корне изменится. Это, естественно, привело нас к обсуждению вопроса, с которого я начал главу: может ли человек измениться к лучшему? Я стоял на отрицательной точке зрения и поддерживал ее примерно теми аргументами, которые привожу здесь. С другой стороны, Мак-Шонесси настаивал на том, что человек может измениться, и в качестве примера привел самого себя, как человека, который в юности был глуп, непрактичен и абсолютно лишен постоянства.
Я утверждал, что в данном случае мы имеем дело лишь с проявлением огромной силы воли, делающей человека способным побороть врожденные недочеты характера.
– Что касается тебя, – сказал я, обращаясь к Мак-Шонесси, – ты и сейчас всего-навсего безответственный и безнадежный болван, хотя и нашпигованный добрыми намерениями. Но, – поспешил я добавить, заметив, что его рука тянется к увесистому тому Шекспира, лежавшему на пианино, но твои умственные способности столь необычны, что ты в состоянии скрыть это от людей и внушить им веру в твой здравый смысл и мудрость.
Браун согласился с тем, что в данном конкретном случае, то есть в характере Мак-Шонесси, явно проступают следы прежних свойств, однако нашел пример неудачным, а потому – заявил он – его не следует принимать в расчет в нашем споре.
– Говоря со всей серьезностью, – продолжал он, – не полагаете ли вы, что в жизни, могут произойти события, достаточно значительные, чтобы переломить и полностью изменить натуру человека?
– Переломить, – отвечал я, – но не изменить! Значительное событие может сломить человека или закалить его, точно так же как пребывание в печи может расплавить или закалить металл, но ни одна, печь, когда-либо зажженная на земле, не в состоянии превратить брус золота в брус свинца или брус свинца в брус золота.
Я спросил Джефсона, каково его мнение. Аналогия с брусом золота не показалась ему уместной. Он настаивал на том, что характер человека может измениться. Джефсон уподобил характер некой смеси, пагубной или живительной, которую каждый человек приготовляет сам, заимствуя составные части из безграничной фармакопеи, предоставленной в его распоряжение жизнью и эпохой.
– Нет ничего невозможного в том, – сказал он, – что готовое снадобье выплеснут, а затем, ценою неимоверного труда, приготовят новое, но это, впрочем, случается редко.
– Вот что, – сказал я, – давай поставим вопрос практически: известен ли тебе случай, когда характер человека совершенно изменился?
– Да, – ответил он, – я действительно знаю человека, чей характер, как мне кажется, изменился полностью в результате одного события. Вы, возможно, скажете, что этот человек просто пережил потрясение или научился подчинять себе свои врожденные наклонности. Как бы то ни было, результат был поразительный.