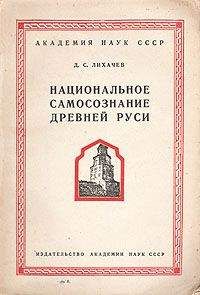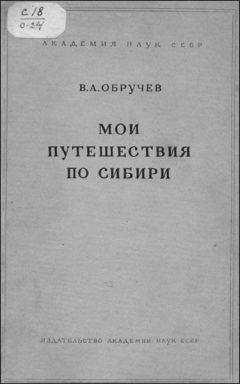Что все они, как легкий ветер, мимо
Проносятся.
(IV, 3)
{* Перевод М. Зенкевича представляется не совсем удачным. Соседство с фразой "не страшны твои угрозы" выдвигает на первый план в системе значений слова "доблесть" - оттенок храбрости, бесстрашия. В подлиннике - "honesty".}
Но он не может быть последовательным даже в этом: чтобы сражаться за свободу, надо платить солдатам; и если сам Брут не может добывать денег "бесчестьем", ему приходится обращаться за деньгами к Кассию, который добыл их как раз теми "бесчестными средствами", к которым Брут не хочет прибегать, - "вымогая гроши из рук мозолистых крестьян", беря взятки. В ссоре вождей республиканцев "прагматист" Кассий ведет себя гораздо сдержанней и терпимей, чем "стоик" Брут; но ведь Брут больше потерял, и разочарование его горше. Если Цезарь надевал маску нечеловеческого величия, то Бруту приходится надевать маску нечеловеческой стойкости: он скрывает от своих товарищей, что знает о смерти Порции. Брут держит себя и своих друзей в невероятном, предельном напряжении. Это состояние долго продлиться не может. Скорее в битву, которая все решит: либо победа, а в ней - оправдание всех жертв, либо поражение, а тогда верность принципам потеряет значение, и можно будет прибегнуть к тому средству, которое он так недавно осуждал, - к самоубийству.
Но еще до начала сражения, предрешая его исход, Бруту явится тень Цезаря. Появление призрака дает повод истолковывать всю пьесу как типичную "трагедию мести": Брут и Кассий убили Цезаря, дух его взывает к мщению, и убийцы поплатятся собственной жизнью за его смерть. Действительно, формально появление призрака обставлено точно так, как всегда у Шекспира невинные жертвы являются своим убийцам: он приходит накануне решающей битвы, как приходили к Ричарду Глостеру его жертвы; он невидим для всех, кроме виновного в его гибели, как призрак Банко на пиру у Макбета. Но содержание этого приема в "Юлии Цезаре" совсем иное. Трудно согласиться и с тем, что дух Цезаря - это дух зла, дух эгоизма и честолюбия, одним из проявлений которого является монархия, и что Шекспир в "Юлии Цезаре" "отрицает господствующие теории, рассматривающие монархию как наилучшую форму правления, и выражает симпатии республиканским идеалам" {В. П. Комарова. К вопросу о трактовке трагедии В. Шекспира "Юлий Цезарь". - "Вестник ЛГУ", 1959, э 14, с. 83.}. "Юлий Цезарь" был написан почти одновременно с "Генрихом V", а как бы ни трактовать эту пьесу и образ ее главного героя, политические идеалы, высказанные в ней, весьма далеки от разоблачения монархии как формы правления. Да и само понятие res publica в XVI в. не совпадало с тем, что мы понимаем под этим словом сейчас. Делать автора "Юлия Цезаря" "республиканцем" значит не только упрощать смысл трагедии, но и переносить ее конфликт в другую плоскость. Для Шекспира "...критерий, которым нужно оценивать действенность и справедливость какой бы то ни было системы правления, - благоденствие общества, о котором идет речь" {J. Е. Phillips. The State in Shakespeare's Greek and Roman Plays. New York, 1940, p. 184.}. Заговорщики, как мы уже говорили, не принесли благоденствия стране, они надолго вывели ее из того равновесия, в котором она была при Цезаре, и вывели для того, чтобы отдать ее во власть людей, чьи личные качества и действия заслуживают гораздо большего осуждения, чем характер и действия Цезаря. Таков объективный ход событий в пьесе. Неудача заговорщиков - это неудача борьбы с той формой правления, с тем укладом жизни, установления которого требуют не честолюбие Цезаря, а Время и Рим. Дух Цезаря - это дух времени, он сильнее заговорщиков и победит их при Филиппах.
Но для Брута в появлении призрака заключен и другой смысл {Любопытно, что у Плутарха Бруту является просто злой гений ("Брут". XXXVI); призраком Цезаря его сделал сам Шекспир.}. Призраки у Шекспира выражают и ход судеб, и состояние души героя. Боль от смерти Цезаря была заглушена в душе Брута сознанием необходимости этой смерти. Теперь этого сознания нет, и воспоминание о Цезаре для него мучительно. Эту боль Брут будет подавлять в себе во время битвы. Он ни о чем не должен думать сейчас, кроме победы. И он действительно разбивает Октавия; но его солдаты не обладают его бескорыстием, они бросаются грабить, и это приносит поражение и смерть Кассию, который не так глубоко страдал, как Брут, и у которого не было поэтому его отчаянной надежды: "Неверие в успех его сгубило", - объясняет его самоубийство Мессала. Но даже смерть Кассия не должна отвлекать Брута от борьбы за победу, не должна лишать его напряженной собранности:
Друзья, я должен
Ему слез больше, чем сейчас плачу.
Сейчас не время, Кассий, нет, не время.
На остров Фазос прах его доставьте:
Не место в лагере для погребенья.
Оно расстроит нас.
(V, 3)
И только когда битва проиграна и наступил конец всему, Брут может признаться друзьям, что смерть желанна, потому что она принесет облегчение. И последняя его мысль - о Цезаре: "О, Цезарь, не скорбя, убью себя охотней, чем тебя!" (V, 5).
А. А. Аникст пишет: "...Беда не в том, что он (Брут. - Ю. Г.) убил Цезаря, а в том что он не убил его" {А. А. Аникст. Творчество Шекспира. М., 1963, с. 369.}. Но трагедия Брута в том, что он не убил Цезаря, и в том, что он убил его.
Выбору обычно сопутствует отречение от какого-то ряда ценностей, от какой-то стороны жизни. Антоний и Клеопатра приходят к другому решению проблемы. Они ни от чего не отрекутся - ни в себе, ни в мире. Они достигнут синтеза, соединят разъединенное, обогатив свою личность тем, чего ей недостает, сделав совершенным каждое свое чувство. Поэтому конечным эффектом всей пьесы, как никакой другой у Шекспира, будет высшая гармония, красота и мудрая просветленность.
Антоний должен выбирать не между двумя ценностями - Римом, т. е. честью, и Клеопатрой, т. е. любовью; он должен выбирать между двумя мирами, а в каждом из этих миров своя любовь, своя честь, свое могущество, свое счастье и свое представление о них; и невозможно решить, какой из них "лучше".
Александрия. Здесь чтут Аполлона и Изиду - и на сей раз это не обычный шекспировский анахронизм. Здесь течет великая река, она изменчива и приносит то голод, то изобилие, а на ее берегах стоят огромные, вечные пирамиды. Здесь ложа мягки и блюда изысканны. Здесь в царском дворце толпятся не полководцы и сенаторы, а прорицатели, музыканты, евнухи и прислужницы рабыни и подруги царицы. Они не умеют сражаться и презирать боль. Счастье для них - это красота, роскошь и долгая жизнь. И любовь. Все здесь не так, как в Риме. А надо всем - та, что непонятней и прекрасней всего, царица, звезда Востока, Клеопатра. И никакие привычные меры и оценки здесь не годятся.
А какой мерой все это мерят римляне?
Снова, как в "Юлии Цезаре", две силы решают судьбу Рима; но теперь их зовут не республика и монархия, а Октавий и Антоний. Они оба наследники Цезаря, и если между ними вспыхнет вражда, то бороться будут не политические противники, а претенденты на корону. Но пока борьба еще не началась, по крайней мере открытая борьба. Октавий носит имя Цезаря, но он не обладает его престижем, славой и могуществом, и взбудораженная смертью Цезаря страна еще не успокоилась. Опасности подстерегают молодую власть триумвиров. Защищать ее приходится одному Октавию - Антоний на Востоке занят любовью и празднествами. Он пренебрегает главной, первейшей обязанностью римлянина защитой отечества, и для Октавия он - "живое воплощенье всех слабостей и всех дурных страстей".
Но и римская суровая добродетель Октавия и его друзей далеко не так органична для них, как для их предков, и в том, как подробно, слишком подробно перечисляет Октавий забавы, которым предается Антоний, чувствуется не только непонимание и осуждение, но и от самого себя скрываемая зависть. Это зависть не к радостям Антония, а к нему самому, к его способности создавать эту радость и наслаждаться ею. Октавий чувствует, что он лишен чего-то такого, что щедрой мерой отпущено Антонию. Он ординарный человек, и от этого беспокойного ощущения он избавляется самым ординарным способом отрицанием и осуждением того, чего он лишен и не понимает.
Антоний принадлежит обоим мирам. Он римлянин по рождению и воспитанию, он был другом Цезаря, он один из триумвиров. Он воплощает римские добродетели - воинскую доблесть, неприхотливость, твердость духа - в гораздо большей степени, чем Октавий. Это результат самовоспитания. Но от природы в нем заложены и другие силы, другие качества, другие возможности, которые и реализуются в его "египетской" жизни. Соотношение между этими частями его души и их происхождение прекрасно объясняет Лепид, для которого, как и для Октавия, "римское" равно добродетели и "египетское" - пороку:
Скорей он унаследовал пороки,
Чем приобрел; не сам он их избрал,
Он только не сумел от них отречься.
(I, 4; перевод М. Донского)
Антоний сначала тоже не видит иного пути к достижению целостности, кроме отсечения одной из частей своей души, отречения от одного из миров и признания только другого "благородным":