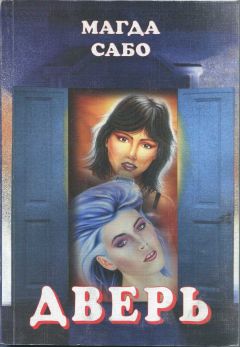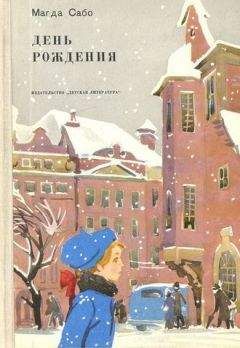— Все — «за мир». Вы им верите? Я — нет. Потому что кому же тогда воевать? Под каким соусом грабить и убивать друг друга?.. Никогда мирно не жили — и вдруг взяли да помирились?..
Сколько крови перепортила она активисткам, приглашавшим ее на собрания, пытавшимся сломить это ее враждебное безучастие! В совете, домовом комитете иначе, как на Божье наказание, на нее уже и не смотрели; даже пастор был с ними в этом совершенно солидарен. Дескать, сущий дух отрицания, Мефистофель в юбке. Как-то я сказала ей: не отталкивай она сама от себя свое счастье, быть бы ей нашим первым женщиной-послом или премьер-министром, не меньше. Ум у нее во всяком случае поистине государственный, любому министру под стать.
— Ну, — сказала Эмеренц, — не знаю уж, что там послы делают да министры, только мне и склепа моего довольно. Так что оставьте меня лучше в покое, не учите; я и так уже ученая. Пускай с государством в эти игры играют, кому от него чего-то нужно. Сами же говорите: сколько угодно возможностей. А мне никого и ничего не нужно, поймите же наконец.
Ей до государства и правда дела не было, не собиралась она втираться в ряды обер-подметал, не догадываясь, что вечный ее негативизм — уже политическая позиция. Строптивость эта при Хорти не просто лишь забавляла ее тогдашних работодателей. Сын брата Йожи рассказывал, что пришлось ей и отсидеть несколько дней за какое-то «подстрекательство». Чего она только в самом деле ни несла, принимаясь ораторствовать — и не заботясь, при ком и о чем: хоть вон беги. Так и поступали слушатели ее комментариев — например, по поводу Лайки и Гагарина. Сначала, когда радио передавало пульс Лайки, она вознегодовала: вот, мол, мучают животное, придумав потом себе в утешение, что все это чистейшее надувательство: приспособили часы, они и тикают. Какая же это мало-мальски сообразительная собака даст себя в шар или во что там запихнуть да по небу катать! Гагарину же напророчила, что добром не кончит: нельзя, мол, идти на такое. Бог, он до просьб наших редко снисходит, но уж не упустит наказать. Вот же сама она дает нахлобучку, если цветы ее потопчут, а он почему должен терпеть вторгающихся к нему, болтающихся среди небесных тел?.. Не для того они там, непорядок это! И когда вместе со всем потрясенным миром мы переживали гибель Гагарина, даже безнадежно глупая Адель ушла, не стала слушать Эмеренц, которая, размахивая руками, доказывала: ага, я же говорила, не потерпит Бог вмешательства в его компетенцию. Не такими словами, но в таком смысле. Единственный, наверно, человек на земле, у кого не пробудила сожалений закатившаяся звезда молодого космонавта. Не то чтобы Эмеренц больше жалела Кеннеди или Мартина Лютера Кинга. Она без пристрастия и участия следила за событиями обоих полушарий. И в Америке, дескать, свои подметалы есть — и те, кто ими командуют. Кеннеди тоже был такой командир; а уж негр, который не в цирке выступает, а повсюду разъезжает да речи держит — и подавно. А что погиб — так ведь все когда-нибудь помрем, не лить же ежечасно слезы из-за этого.
Позже, встречаясь у могилы Эмеренц с сыном брата Йожи, мы часто говорили об этом ее непреклонном убеждении. Молодой человек только руками разводил: слишком, по его мнению, поздно подоспела для нее мирная пора; вот его отец — тот здраво рассуждал. И тяжелые времена не забывал, и новые оценил: мыслил прогрессивно. Тетушка же все только отрицала. Заметили, наверно, какое странное — беспредметное — было это ее отрицание, ожесточение?.. Против всех! От Франца-Иосифа[41] до кого угодно, кто хоть как-то на судьбы страны влиял, даже положительно.
Я уж не сказала, умолчала об адвокатском сыне. Хотя где-то там следовало, по-моему, искать объяснение всему. В итоге за нас его нашел подполковник: Эмеренц, похоже, возненавидела всякую власть, любую. Найдись человек, который бы проблемы хоть всех пяти частей света разрешил, Эмеренц и за ним следила бы с недоброжелательством — просто потому, что удачлив. Все друг друга стоили в ее глазах: Бог и нотариус, король и партработник, судебный исполнитель и генеральный секретарь Объединенных Наций. А уж если становилась она почему-нибудь на чью-то сторону, симпатия ее тоже была универсальна, абсолютна. Распространялась не только на правого, кто ее заслуживал, а на всех без исключения. Вплоть до виноватых.
Как раз я-то и могла бы об этом порассказать. Именно передо мной она иногда приоткрывала душу, хотя у меня все-таки хватало ума не предавать гласности ее откровенные излияния. Как-то сижу, например, за машинкой, а Эмеренц на коленях, обирая с ковра шерсть влажной тряпкой (пес как раз линял), приговаривает между делом:
— Ну спрятала я немца, ну и что, Господи ты Боже мой. У него нога висела, как плеть — вернее, то, что от нее осталось, не отстроченное пулеметом. Подумала: найдут — прикончат ведь. И туда же потом одного русского снесла; там они и лежали в углу, в запертом подвале, пялились друг на дружку (видели б вы только!.. Разболтаете — не знаю, что с вами сделаю). Я как раз тогда в этот, в наш дом, виллу, переехала. Никто еще там не жил, один господин Слока: тот старик парализованный, которого я после похоронила. Владельцы в Швейцарию подались, а из теперешних жильцов никто еще не прибился. Обошла я там все от чердака до подвала и внизу чудненькое местечко присмотрела, чуланчик крохотный такой, без окон. Навалила дров — дверку снаружи заслонить, там и держала всех, кому требовалось скрыться. Представляете, какие оба мины состроили, когда я туда еще русского положила! Легкие, что ли, у него были прострелены, кровь вот тут пузырилась. Мякают, вякают что-то друг другу, а не понимают ничего. Я и оружие их припрятала, до сих пор цело; не храню, а так. Стрелять-то умею, один мой хозяин, офицер, заядлый охотник был; только в кого? Да и громко слишком, не выношу. Так и померли оба, не успели подружиться; ночью выволокла их и уложила рядком перед домом. По сию пору улица гадает, что бы это значило: почему там мирно, рядышком лежали. И господина Бродарича прятала там, когда при Ракоши искали его. Это его-то! С буренья всегда в каске придет, руки во въевшемся машинном масле. Шпион будто бы; хотя какой он, к шутам, шпион! Шпион, кто накапал на него. Его дать забрать? Чтобы жена его одна-одинешенька осталась, которая только и знала, что чистить, вытряхивать, убираться… Да и сам он человек такой уважительный, подсядет, бывало, когда растапливаю котел, покажет, как уголь расходовать поэкономнее. Это он огонь-то научил меня разводить. Ко всему ведь подход надо знать: к костру и растопке тоже. Пришли за ним, спрашивают, а я: «Нет его здесь; другие какие-то спозаранок увели, вы уж поищите, пожалуйста, он вот и мне за готовку задолжал». Так и перебыл это время у меня. Попустовал-попустовал мой закоулок, а потом авоша[42] я пустила, у нас ранило в палисаднике. Невредный был авош, знала я его, заходил, когда я руку сломала; распорку еще наладил мне для сушки белья — почему было не спрятать; жалко, пропал бы человек. А вот из-за другого, после того, не стала бы рисковать; но и его пару дней продержала: уж такой был затравленный, запуганный… Как побитая собака.
Я слушала, не перебивая, воздерживаясь от замечаний. О, святая Эмеренц Чабадульская, ревнивица непрактичного милосердия, всеобщая спасительница, потому что долг велит всех преследуемых спасать: что Гросманов, что их бывших гонителей… У этой видавшей виды женщины не то что гражданской, вообще никакой сознательности нет! На одной стороне ее хоругви — Бродаричева каска, на другой — распорка для белья. Ум острый, но словно в вату обернут. Любознательна, но неразборчива. Со способностями, но пропадающими зря.
— Скажите, — спросила я как-то, — вот вы спасали… а не доносили?
Она взглянула с презрением: за кого я ее принимаю. Даже на цирюльника не донесла, хотя тот обчистил ее до нитки; мало того, что врал напропалую, еще и обокрал — взял все и скрылся, и то ни слова не сказала: что ж, бери, коли нужно. Только с тех пор на каждого мужчину смотрит, как на такого вот парикмахера, с одной мыслью: нет уж, второй раз ничего нажитого не отдам, тем более — денег. И в будущем, которое она себе приуготовила, не было уже места ни для парикмахеров, ни для летающих собак, ни для каких-нибудь Кеннеди; только себя да своих покойников допустила туда. И вдруг, спохватясь, что лекарство для одного больного забыла получить, бросила тряпку и побежала, спросив, не надо ли мне чего купить. Глядя ей вслед, погрузилась я в раздумье: почему она ко мне так привязалась?.. Что во мне нашла, такой на нее непохожей?.. Слишком я еще молода была, не додумалась, сколь нелогично, безрассудно и гибельно это ее влечение, хоть и знала древнегреческую литературу, которая изображала как раз такие страсти: любовь и смерть; сверкающую секиру в их согласно сплетенных дланях.
О чем она почти ничего не говорила, так это о краях, где родилась, поблизости от моих родных мест. А я только и делала, что бранила все здешнее, воду, воздух. И ранней весной, когда еще везде лежит снег, но проталины испускают уже влажный земляной дух, меня начинало неудержимо тянуть туда, домой. Но Эмеренц никогда не разделяла моих порывов, хотя и сама не могла не ощущать призывного весеннего благоухания; не видеть — не листьев еще, даже не почек, а того нежно-зеленого марева, которыми окутываются ветки, возвещая начало полевых работ.