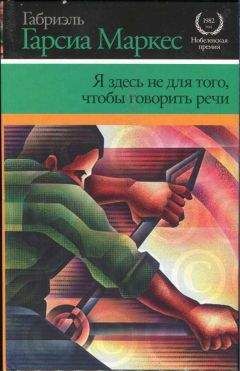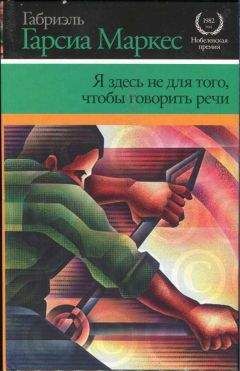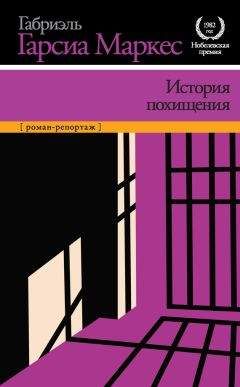Вместо того, чтобы после рождественских разочарований и несбывшихся надежд впасть в депрессию, Диана ощутила приступ бунта против правительства. В ноябре она почти обрадовалась указу 2047, породившему столько надежд. Тогда Диана приветствовала деятельность Гидо Парры, усилия Почетных граждан и намерения Конституционной Ассамблеи скорректировать политику подчинения правосудию. Крах рождественских надежд переполнил чашу терпения. Возмущенная Диана спрашивала себя, почему правительство не найдет такой способ диалога, который бы не вызывал ответного давления в форме этих абсурдных похищений. Совершенно ясно, насколько труднее действовать правительству теперь, в условиях шантажа. "Я рассуждаю как Турбай, - писала она, - и мне непонятно, почему же все вдруг стало с ног на голову?" Почему правительство так пассивно реагирует на все происки похитителей? Почему нельзя более энергично потребовать от них сдаться, ведь по отношению к ним уже выработана определенная политика и удовлетворены их разумные требования? "Чем дольше медлит правительство, тем уютнее чувствуют себя преступники, выигрывая время и сохраняя в своих руках мощное средство давления на власть", - писала Диана. Ей начинало казаться, что посреднические усилия из добродетели превратились в подобие шахматной партии, где каждый двигает свои фигуры, следя, кто раньше поставит мат. "Выходит, я здесь просто пешка? - спрашивала себя Диана и сама же отвечала с уверенностью: - Меня не покидает мысль, что все мы - отработанный материал". Недобрым словом поминает она и уже прекратившую свое существование группу Почетных граждан: "Они начали с высоких, гуманных целей, а кончили оказанием услуг Подлежащим Экстрадиции".
В конце января в комнату Пачо Сантоса вбежал сдающий смену охранник.
- Все, конец! Начинают убивать заложников.
По его словам, речь идет о мести за смерть братьей Приско. Заявление уже готово, его обнародуют через несколько часов. Первая - Марина Монтойя, потом по очереди через каждые три дня: Ричард Бесерра, Беатрис, Маруха и Диана.
- Вы - последний, - успокоил охранник, - так что можете не волноваться, наше правительство больше двух трупов не выдержит.
Пачо охватил ужас: легко было подсчитать, что если верить охраннику, ему осталось жить восемнадцать дней. Недолго думая, он решил без всяких черновиков написать жене и детям письмо; шесть страниц школьной тетради были заполнены его привычно мелким, но более разборчивым почерком, каждую букву Пачо выводил отдельно, словно печатал, мысли излагал четко и уверенно, понимая, что это не просто прощальное письмо, а завещание.
"Я хочу одного: чтобы эта драма закончилась как можно быстрее, неважно чем, лишь бы все мы наконец успокоились", - так начиналось письмо. Потом Пачо написал, как бесконечно благодарен Марии Виктории, рядом с которой стал настоящим человеком, гражданином, отцом; он сожалел только о том, что слишком много времени уделял журналистской работе, а не дому. "Эти угрызения совести я уношу в могилу". Что касается детей, совсем еще малюток, он верил, что оставляет их в надежных руках. "Расскажи им обо мне, когда придет время, когда они смогут понять, что произошло, и без лишнего драматизма воспримут всю бессмысленность моих страданий и смерти". Пачо благодарил отца за все, что тот сделал для него, умоляя его "привести в порядок все дела прежде, чем присоединиться ко мне, чтобы не перекладывать эти заботы на плечи детей в канун надвигающейся трагедии". Здесь он коснулся "скучной, но важной для будущего" части своего послания: материального благополучия детей и объединения семьи вокруг "Тьемпо", Первое зависело в основном от страховки, оформленной газетой на его жену и детей. "Прошу тебя, потребуй все, что нам положено, это, по крайней мере, как-то оправдает мои жертвы ради газеты". Что касается будущего газеты, ее профессиональных, коммерческих и политических перспектив, Пачо к первую очередь беспокоили внутреннее сутяжничество и распри, свойственные многочисленной семье. "После стольких страданий будет жаль, если "Тьемпо" развалится на части или попадет в чужие руки". В конце письма Пачо еще раз поблагодарил Мариаве за радостные воспоминания о счастливо прожитых днях.
Взяв письмо, охранник заверил с пониманием:
- Не волнуйся, папаша, я позабочусь, чтобы оно дошло.
На самом деле у Пачо Сантоса уже не было в запасе тех восемнадцати дней, на которые он рассчитывал; ему оставалось жить всего несколько часов. В списке он значился первым, а приказ об уничтожении был отдан днем раньше. По счастливой случайности об этом в последний момент узнала от кого-то Марта Ньевес Очоа. Она написала Эскобару, умоляя пощадить Пачо, чтобы не взбудоражить его смертью всю страну. Неизвестно, получил ли это письмо Эскобар, но факт остается фактом: приказ в отношении Пачо исчез навсегда, а вместо него был вынесен смертный приговор Марине Монтойя.
Марина, видимо, предчувствовала это еще в начале января. Без видимых причин она старалась выходить на прогулку только под охраной Монаха, ее давнего приятеля, вернувшегося с первой сменой в начале года. После телетрансляций они выходили на час, потом появлялись Маруха и Беатрис со своими охранниками. Однажды Марина вернулась с прогулки, дрожа от страха: ей привиделся человек в черной одежде и черной маске, который наблюдал за ней из темноты мойки. Вначале Маруха и Беатрис приняли этот рассказ за очередную галлюцинацию и не придали ему значения. Той же ночью они убедились, что в темноте за мойкой невозможно разглядеть человека в черном. К тому же это мог быть только свой, иначе бы насторожилась овчарка, лаявшая на собственную тень. Монах тоже считал, что все это Марине просто показалось.
Однако через два-три дня Марина вновь вернулась с прогулки в панике. Человек в черном опять долго и пугающе пристально наблюдал за ней, уже не таясь. На этот раз было полнолуние и весь двор заливал фантастически-зеленоватый свет. Слушавший рассказ Монах пытался доказать, что все это ерунда, но говорил как-то путанно, что окончательно сбило с толку Маруху и Беатрис. После той ночи Марина больше не гуляла. Зато драматизм ее рассказов, в которых переплетались фантазия и реальность, оказался настолько велик, что Маруха как-то ночью, открыв глаза, при свете ночника увидела, что Монах сидит как всегда на корточках, но его маска превратилась в череп. Маруха испугалась бы меньше, если б не связала свое видение с приближающейся годовщиной смерти матери 23 января.
Остаток недели Марина не поднималась с постели, страдая от застарелой и, казалось, забытой травмы позвоночника. Как в первые дни, сознание ее помутнело. Маруха и Беатрис вовсю ухаживали за потерявшей ощущение реальности подругой. Почти волоком они водили ее в туалет. Кормили и поили с ложечки, подкладывали под спину подушку, чтобы она могла смотреть телевизор с кровати. С Мариной нянчились вполне искренне и с любовью, а в ответ слышали только упреки.
- Вы видите, как я больна, но вам все равно, - стыдила их Марина. - А я столько для вас сделала...
Порой терзавшая ее беспомощность становилась еще сильнее. Единственной отдушиной в период этого кризиса оставались неистовые молитвы, которые Марина шептала часами без устали, да трепетная забота о ногтях. Спустя несколько дней ей надоело и это, и, бессильно вытянувшись на кровати, Марина выдохнула:
- А... пусть будет так, как угодно Богу.
Вечером 22 января прибыл уже знакомый Доктор. Поговорив с охраной, он внимательно выслушал рассказ Марухи и Беатрис о здоровье Марины. Потом подсел к ней на край кровати. Разговор, видимо, шел серьезный и секретный, они говорили так тихо, что не удалось разобрать ни слова. Когда Доктор покидал комнату, его настроение улучшилось и он пообещал вскоре вернуться.
Съежившись на кровати, Марина время от времени плакала. Маруха попыталась ее утешить, но она, жестом поблагодарив подругу, попросила не вмешиваться и только пожала ей руку окоченевшей ладонью, как делала при всяких приступах тоски. Такая же нежность досталась и Беатрис, пользовавшейся расположением Марины. Поддерживать силы Марине помогала лишь полировка ногтей.
В среду, 23 января, в десять тридцать вечера женщины расселись у телевизора, чтобы посмотреть программу "Энфоке", и приготовились ловить каждое необычное слово, каждую семейную шутку, непредвиденный жест, мельчайшие неточности в тексте песни, за которыми могли скрываться шифрованные сообщения. Но времени на все это у них уже не осталось. Едва зазвучала музыкальная заставка, как дверь открылась, и в комнату в неурочное время вошел свободный в ту ночь от дежурства Монах.
- Пришли за бабушкой, ее переводят в другое место.
Слова прозвучали как настойчивое приглашение. Лежавшая на кровати Марина превратилась в мраморное изваяние с побледневшими губами и взъерошенной прической. Монах обратился к ней, как любящий внук: