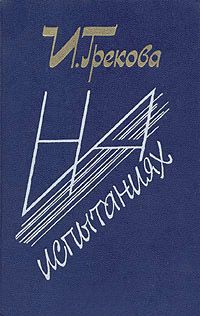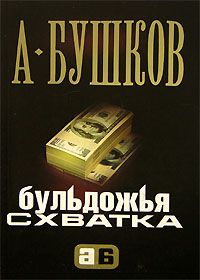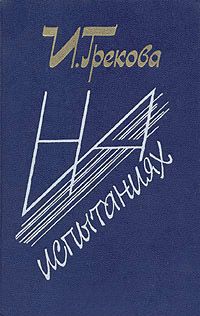И все спрашивала себя: почему? Почему выросли в одной семье, у одних и тех же родителей, при одном и том же воспитании два таких разных сына? В чем тут дело? В случайной комбинации генов? Или все-таки в воспитании? Казавшееся одинаковым, оно на деле одинаковым не было? Не хочется думать, что причина — в редкостной красоте Валюна, в этой пленительной, плывущей черноглазости. Что красота — не дар природы, а вид проклятия. Ведь растут же другие, красивые, и вырастают не хуже других?
Упорно вспоминался Валюн маленьким. Он был прекрасен. Не только красив — он был добр безгранично. Отзывчив. Тот случай со стариком нищим на улице. Чуть не плакал: «Возьмем его к нам, мама! Почему нельзя?» Не умела объяснить, почему. До сих пор не умею. Куда же он делся, тот Валюн? С его пылкой жалостью к старику, с его желанием, чтобы всем немедленно стало хорошо? Исчез совершенно? Не верю! Где-то глубоко внутри теперешнего, спрятанный в джинсы, «балдеж», безответственность, тот мальчик еще существует...
Размышляя, глядела в окно. Все те же ивы, друг за другом, косо растущие, склоненные к домам. Фонарь, мотающийся на проволоке. Бегущие по тротуару тени.
С каким счастьем я слышала звук отпирающейся двери! Пришел он, мой руководитель, мой вожатый...
Постепенно, в беседах за чайным столом, я становилась с Чагиным все откровеннее. Есть у человека потребность в исповеди. Я ему рассказывала о себе почти все, без утайки.
Про свой брак. Про Бориса. Даже про ночные беседы с Милочкой. Про сыновей. Про их детство. И какие они у меня разные. Как меня беспокоит Валюн. Про нищего с затрепанной шапкой (как-то засел у меня в душе этот нищий!).
— Что-то вы здесь просмотрели, — сказал он. — Иметь детей — это ответственность, и немалая. А вы ее избегали. Шли по линии наименьшего сопротивления.
— Я же работала. Не избегала сопротивления. Я была вся в работе.
— Тогда не надо было иметь детей. Быть в работе целиком, без остатка — значит закрыть глаза на все остальное. А остального много. И дети — самое главное.
Очень уж непреклонно он это сказал. Жестко, даже жестоко. Я знала, что и у него были дети. Были, погибли в войну. Но об этом у нас речь не заходила. Никогда.
«Почти все» я ему рассказала. Кроме одного — случая в вагоне.
Так оно и шло. Работала, размышляла, по вечерам пили чай. Чувствовала себя под охраной старшего, умного, опытного...
Неожиданно он заболел. Пришел из больницы, отказался от чая (я похвасталась, что испекла пирог, он не отозвался). Сказал: «Лучше лягу». Возился у себя за шкафом. Скрипнула тахта. Лег.
Я постучалась:
— Глеб Евгеньевич, что с вами?
— Ничего особенного. Прихворнул.
— Можно зайти?
— Заходите.
Он лежал одетый, с закрытыми глазами. Лицо красное. Потрогала — лоб горячий.
— Давайте смерим температуру.
— Не стоит. Пустяки.
— Непременно!
Теперь я была врачом, он — больным. Оказалось — тридцать девять.
— Немедленно в постель. Раздевайтесь!
— Не при вас.
— Хорошо, уйду за шкаф.
Он, тяжко дыша, возился в своем закутке.
— Ну как, уже можно?
— Пока нельзя.
Еще подождала.
— Теперь можно. Войдите.
Уже лег и одеялом накрылся.
— Сейчас я вас осмотрю.
— Не надо.
— Не спорьте. Кто из нас врач?
— Сейчас — вы. Так и быть, осматривайте.
Осмотрела, выслушала. Сзади, слева, — влажные хрипы.
— Что со мной? — спросил он сурово, приоткрыв один глаз.
— Похоже на пневмонию. Может быть, вызвать врача?
— А вы разве не врач? Я вам доверяю.
— Сейчас сбегаю в аптеку, вернусь, напою вас липовым цветом... Дедовское средство.
— Как вы хорошо сказали: «Сбегаю». Хотите сделать мне большое одолжение?
— Очень хочу.
— Сбегайте в аптеку, но без костылей.
— Попробую.
Вышла на улицу — первый раз с одной палкой. А ночь. Страшно. Воздух почти уже зимний, кусает. Ветер. Фонарь качается как оголтелый. Тени от веток, уже голых, мечутся по тротуару, меняют узоры. При взгляде на них кружится голова. Кажется, не тротуар под ногами, а бездна. Мне бы палец один — ухватиться. Все-таки дошла. И вернулась. С лекарствами.
Ему явно было хуже. Рыжий ястребиный глаз глядел тускло. Дыхание хриплое. Вдруг он сказал мне:
— Тоня...
Ошибка памяти? Нет, еще раз:
— Как я рад, что ты пришла, Тоня. Теперь будет все хорошо.
И закрыл глаз.
Тоня так Тоня. Буду Тоней, если ему от этого лучше.
— Да, я пришла. Все будет хорошо.
Тоня... Скорее всего так звали его жену. Ту, которую убило бомбой. С двумя, кажется, мальчиками, сыновьями.
Дала ему лекарство. Поставила банки. Заварила липовый чай. Пить не стал. Был уже без памяти.
Какая ужасная была ночь! Температура все поднималась. Бредил. Какая-то переправа ему чудилась. Через зимнюю реку. Плывущие льдины. Сигналы ракет. Артобстрел...
И тут же почему-то сыновья, Коля и Петя. Тоня, зачем ты их сюда привела? Уведи обратно. Некуда? Что-нибудь случилось? Ах да, совсем забыл. Попала бомба. Убила вас, всех троих. Но вы же здесь, не убиты? Значит, все хорошо.
А вы кто такие? Врачи? Ампутировать ногу? Кто вам позволил? Я не позволяю. Лучше убейте меня.
И так — до утра. Время от времени приходил в себя, просил воды похолоднее. Я бежала — буквально бежала! — в кухню, глубоко хромая при каждом шаге. Набирала воды из крана, поила его. Опять и опять — Тоня. Больной, горячий, может быть, умирающий. И безмерно дорогой, как только может быть дорог один человек другому.
Сердце частило. Ввела корглюкон внутримышечно. Стало как будто полегче. Заснул, забылся. Уже светало. Поздний, зимний рассвет. Розово-серое небо.
Сидела над ним, как над своим ребенком. Меня больше не было: был он.
Этой ночью я поняла, что люблю доктора Чагина. Как при фотовспышке, стало все ярко и ясно в один миг. И никаких сомнений. Не «кажется, люблю», а люблю.
Люблю его, а он до сих пор любит свою покойную жену Тоню.
Наутро температура была уже пониже, общее состояние лучше, но хрипы все те же.
— Что это я вам болтал ночью?
— Ничего особенного. Бредили.
— О чем?
— Что-то военное.
Позвонила в больницу. Кардиограмму, анализы — все, что нужно, обеспечили. А главное — Анну Давыдовну.
— Что ж ты, миленький, хворать вздумал?
— Виноват, Анна Давыдовна.
— Смотри у меня, чтобы без этого. Ты, Кира Петровна, отсюда уйди-ка, я сама управлюсь. Твое дело тоже хромое: битый небитого везет. Нет, уж я сама, по своему обычаю. Тебя постесняется, меня нет.
Через полчаса Анна Давыдовна меня кликнула:
— Поди посмотри. Лежит он у меня как куколка.
На самом деле выглядел он как младенец, наряженный для прогулки. Взбитые, свежие подушки. Уголки наволочек заправлены внутрь. Вышитый пододеяльник. Лицо чистое, бритое, розовое. Я так не умею (укол ревности).
— Вас что же, с работы отпустили, Анна Давыдовна? И надолго?
— А я отгул взяла. Много их накопилось за время-то мое. Глебу Евгеньевичу как не порадеть? Святой человек, несмотря что строгий. Они и в святцах бывают строгие. Никола-то Чудотворец, тот иной раз как взглянет — душа вон. А ты ему не верь, добрый он, только прикидывается.
Святые были для нее вроде добрых знакомых. «Фрола и Лавра больше других любила за то, что «скотину всякую милуют». Религиозной-то по-настоящему не была, а святые — откуда-то из детства, как для нас Баба-Яга или Кощей Бессмертный. Не то чтобы верим, а все же живые они для нас. Бабушка ей про святых рассказывала. У каждого свой нрав, свое, как теперь говорят, «хобби».
— А в церковь вы ходите, Анна Давыдовна?
— Нет, не хожу. Некогда. То с больными, то со зверьми.
Однажды удостоил больного своим посещением сам Главный. «Кто вас лечит?» — «Кира Петровна». — «Конечно, она врач опытный. Но, может быть, нужна консультация более высокого ранга?» Чагин заверил, что не нужна. Главный все-таки выслушал его, измерил давление, посмотрел анализы, даже кардиограммы (я-то знала, что ни уха ни рыла он в них не смыслит). В целом мой метод лечения одобрил. «Как, вы здесь и ночуете? — спросил и сам себе ответил: — Похвально, похвально». Как будто не знал через больничных сплетниц, что я вообще тут живу. Наверняка знал, но хотел соблюсти политес. А мне уже не до политесов было...
Чагин болел тяжело, долго. С рецидивами, неожиданными скачками температуры. То отляжет тревога — как будто все идет на лад, — то опять схватит клещами. Мы с Анной Давыдовной попеременно за ним ухаживали. Больше она, чем я. Меня он стеснялся, ее — нет. Бывало, подолгу ждал ее прихода, только бы не допустить меня...
Однажды я зашла к нему в неурочное время.
— Уйдите, Кира Петровна, — грубо сказал он.
Что делать? Ушла. После Анне Давыдовне:
— Сердится он на меня. За что бы это?
— Не на тебя, на меня.
— За что?
— Секрет. А так и быть, скажу. Валика не подложила.
— Какого валика?
— А это я ему на место ноги свертываю. Как шинель-скатка. Сую под одеяло. Без протеза ему легче, а тебя конфузится. Сегодня забыла положить скатку, он и запсиховал. А ты не горюй, пройдет. Он отходчивый.