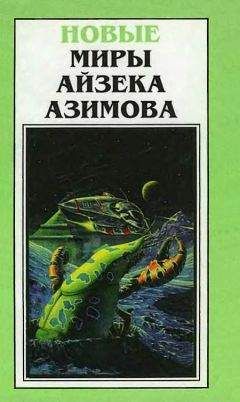- Я напишу роман, действие которого будет происходить там, - сказал он.
- В Америке? Я очень рад и надеюсь, что это произойдет очень быстро.
- Нет, я возьмусь за него года через два... Меньше чем за два года я не сумею собрать необходимые материалы и освоиться с темой. Писать о том, что мне неизвестно, я не могу. Сначала я должен побольше прочесть и обдумать все.
- Но это будет роман?
- Да, и о вашем штате. То есть будущем. Назову я его "Два виргинца".
(Как известно читателю, название в конце концов стало короче и проще "Виргинцы".)
Когда я выразил естественное удовольствие, что автор "Эсмонда" создаст роман, рисующий общество и обычаи Виргинии, мистер Теккерей изложил свой замысел подробнее, и я подумал, - как думаю и теперь - что в его характере преобладали простота, прямота и отсутствие какой бы то ни было скрытности. Почти незнакомому человеку он без всякой утайки рассказывал о задуманном романе и во всех подробностях изложил основу сюжета.
- Местом действия будет Виргиния во время вашей революции, - сказал он. - Героями будут два брата, и один встанет на сторону англичан, а второй американцев, и оба будут влюблены в одну девушку.
- Чудесный сюжет, - сказал я. - Так значит это будет настоящий исторический роман.
- Да, в нем найдет место история того времени.
- И какая сильная есть у вас развязка!
- Развязка?
- Ну, да - Йорктаун.
Еще не договорив, я вдруг понял, какую допустил неловкость: ведь я, ничтоже сумняшеся, посоветовал англичанину сделать кульминацией своего романа капитуляцию лорда Корнуоллиса!
- Прошу у вас извинения, мистер Теккерей, - сказал я с некоторым смущением.
- Извинения? - сказал он, удивленно поглядев на меня.
- За мои неуместные слова.
Его удивление стало еще больше: он, видимо, не понимал, что я имею в виду.
- Я как-то забыл, что говорю с англичанином, - сказал я. - В Йорктауне капитулировал лорд Корнуоллис, так что развязка эта, пожалуй, не так уж уместна.
- А-а! - произнес он с улыбкой. - Какие пустяки! Я давно смирился с Йорктауном.
- Да, я знаю, вы восхищаетесь Вашингтоном.
- О, да. Таких великих людей мало в истории.
Видимо, упоминания об этих давних исторических событиях не задевали его чувствительность, и я сказал с улыбкой:
- Теперь все любят и уважают Вашингтона, но не странно ли, как результаты меняют точку зрения? В семьдесят шестом году Вашингтон для англичан был бунтовщиком, и если бы вы его взяли в плен, так, возможно, и повесили бы.
На это мистер Теккерей ответил с большим чувством:
- Уж лучше нам было лишиться Северной Америки!
На этом кончается мой краткий рассказ о часовой беседе с этим человеком, наделенным великими и разнообразными талантами. Он был так же глубок, как его книги, и я почти готов сказать, что мне он показался даже интереснее своих книг. Это необычайное сочетание юмора и грусти, сарказма и мягкости, контраст между его репутацией сардоничнейшего циника, изрыгающего горчайшие анафемы на своих ближних, и живым, на редкость приветливым человеком, чей голос порой становился изумительно нежным и музыкальным, все это слагалось в интригующе-интересную личность, глубину которой трудно измерить.
УИТУЭЛЛ И УОРВИК ЭЛВИНЫ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
"Я знал только троих людей, чей гений, словно башня над равниной, высился над прочим человечеством. То были Броум, Теккерей и Маколей... Казалось, будто от природы они наделены гораздо большей массой мозга, нежели другие". Из всех троих отец отдавал пальму первенства Теккерею.
Это была самая горячая дружеская привязанность в жизни Элвина. В 1885 году "Тайме" опубликовал рецензию на появившихся в печати "Ньюкомов", автор которой ополчился на нравственное и религиозное содержание романа, и это больно задело чувства Теккерея. "Что касается религии, - писал он Элвину 6-го сентября 1855 года, - видит бог, мне кажется, что мои книги написаны горячо верующим человеком, что же касается нравственности, то пишу я о тщете успеха, как и всего в жизни, кроме любви и добродетели, не таково ли и учение Domini nostri {Господа нашего (лат.).}? Вы как-то заметили, что у вас нет возражений против моей этики. Возможно, написав об этом, вы вывели бы сей бестолковый мир из заблуждения на мой счет". Элвин взялся откликнуться на книгу и напечатать в "Куотерли" теплый отзыв и дал роману весьма высокую оценку. "Вы слишком добры и снисходительны, - написал Теккерей по получении корректуры, - с каким удовольствием это прочтет моя любимая старая матушка!" Встретив затем отца 8-го октября на обеде у Джона Форстера, Теккерей принялся горячо доказывать, что главный редактор перехвалил его. "Я возразил, - пишет Элвин, - что его книги глубже, чем он думает, ибо, как я подозревал, работал он под действием инстинкта, не сознавая до конца, что вышло из-под его пера". "Да, я и сам не знаю, - признался Теккерей, - откуда что берется. Я никогда не видел тех, кого описываю, не слышал разговоров, которые они ведут между собой. Порой я сам бываю удивлен, читая то, что получилось". "Его чистосердечие не знало меры, - продолжает Элвин, - оно превосходило все, что мне случалось слышать. Его крупная голова казалась воплощением интеллектуальной мощи".
В ту пору Теккерей собирался в свое лекционное турне по Америке. Когда он возвратился, они с отцом случайно встретились на Пикадилли 10-го октября 1856 года, и отец пошел провожать его домой. Они беседовали, и Элвин спросил, работает ли он сейчас над чем-нибудь. "Я было начал одну вещь, ответил Теккерей, - но у меня не получилось, и я сжег ее... Я знаю, мне не перепрыгнуть "Ньюкомов", но нужно прыгнуть хоть до той же метки". Элвин стал расспрашивать, из-за чего он сжег написанное, и получил такой ответ: "Все покатилось по знакомой колее. Я истощил характеры, которые мне хорошо известны, ну а придумать новые совсем непросто. Сейчас у меня есть два, даже три новых замысла. Один из них таков - перенести повествование во времена доктора Джонсона". "Не делайте этого, - взмолился Элвин, - "Эсмонд" замечательная стилизация, но вы и сами не возьметесь утверждать, что никогда не погрешаете в деталях, ибо поневоле заимствовали их у других авторов. Писатель может воссоздать лишь собственное время. Вы намекнули в "Ньюкомах", что собираетесь поведать нам историю Джей Джея". - "Именно это я и пробовал писать, - ответил Теккерей, - но впал в какой-то безотрадный тон. Мне бы хотелось вывести жизнелюбивого героя, а это очень трудно, ибо в таком характере должна быть глубина, дающая ему значительность, внушающая интерес. Пожалуй, невозможно выдумать героя, в котором не было бы доли грусти. По-моему, оптимисту следует играть вторую скрипку, он должен быть веселым, славным плутом. Но люди постоянно сетуют на то, что мои умные герои негодяи, а добродетельные - дураки". Элвин стал уговаривать его описать поэзию семейной жизни, противопоставить простым, домашним радостям томление и тщету великосветского рассеяния. Но Теккерей воскликнул с горечью: "Мне ли описывать прелести семейного очага! Я их не знал, вся моя жизнь прошла среди богемы. Да и описывать в домашнем счастье почти нечего. Такой картине с неизбежностью не доставало б живости. Я собирался показать Джей Джея женатым, изобразить те тяготы, которыми обременяет нас супружество. Потом он должен был влюбиться в жену друга и превозмочь свою любовь привязанностью к собственным малюткам". "Но и эту книгу, - сказал Элвин, - я умолял его не сочинять".
Пожалуй, не было другого человека, чье общество отец ценил бы столь же высоко, как общество Теккерея. "Все, связанное с ним, я вспоминаю с радостью, - слышал я от отца в 1865 году. - Я не способен говорить о нем без боли, я так его любил. Он был прекрасным, благородным человеком, простосердечным, как ребенок, в нем не было и тени кичливости или манерности. Его беседа была в высшей степени непринужденна". В свою очередь, и Теккерей испытывал к отцу большую теплоту. Оба они были словоохотливы, но ладили прекрасно, так как их интересы совпадали: оба любили литературу и ценили юмор. Теккерея привлекала в Элвине какая-то особая бесхитростность и, в то же время, даровитость. Он называл его доктор Примроз и так и обращался к нему в письмах, относящихся к той поре, когда они сошлись и стали близкими друзьями. Но есть еще одна причина привязанности Теккерея к Элвину, которая видна в одной его записке более позднего времени: "Не все любят меня, как вы. Мне кажется подчас, что я непопулярен по заслугам, и мне это порою даже по душе. С чего бы мне желать, чтобы я нравился Тому или Джеку?.. Я знаю, какого Теккерея воображают себе эти люди: эгоистичного, бездушного, хитрого, угрюмого, коварного. Какая желчь и горечь стекают с моего пера! Это у вас в душе нет ни единой червоточинки, мой дорогой Примроз, но примулы и розы плохо цветут в нашем климате..."
В мае 1857 года оба они с огромным удовольствием провели несколько дней в Норвиче, куда Теккерей приехал читать лекции о "Четырех Георгах". Он был в прекрасном расположении духа, чувствовал себя в своей стихии, был оживлен, касался в разговоре многих тем. Элвин вел тогда краткие записи, иные из которых стоит процитировать дословно: "Он очень тихо говорит, я напрягаю слух, чтоб ничего не пропустить. Он не тратит времени на развитие мыслей, а только намечает их, что как бы придает отрывочность его беседе. Мне кажется, что он не беспокоится о том, раскрыл ли он наилучшим образом и до конца ту или иную свою идею, а иногда - даже о том, успел ли собеседник уловить ее. Ему присущи две манеры - одна очень спокойная, очень серьезная, очень глубокомысленная, почти высокопарная, и другая (гораздо больше ему свойственная) - когда он всем играет, как мячом, небрежно и легко подбрасывая вверх не ведающей промаха рукой любые темы: забавные и важные, пустячные и значимые - и обращая в шутку каждую. Но если речь заходит о религии, он говорит без тени юмора, с торжественной серьезностью".