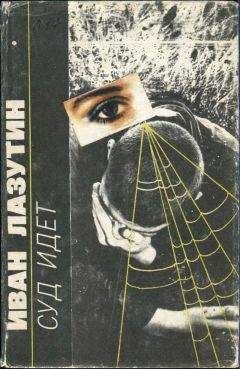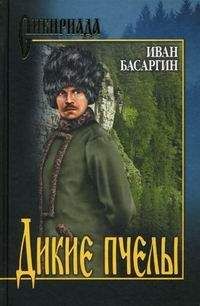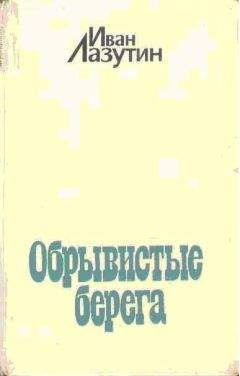— Колдовал.
Правой рукой Дмитрий обнимал упругую талию Ольги, левой — гладил ее ноги.
— И тебе не стыдно?
— А чего мне теперь стыдиться? Ты моя жена.
— Будущая. А сейчас не давай рукам воли. — Она хотела убрать со своей ноги руку Дмитрия, но раздумала. В ее глазах светилась покорность.
Прижав голову Дмитрия к груди, она гладила его русые волосы, наматывала вихры на палец.
— Сколько еще дней ждать? — спросил Дмитрий, слушая, как мощными толчками бьется сердце Ольги.
— Двадцать. Как только сдам последний экзамен.
— Может быть, завтра подадим заявление?
— Если бы это зависело только от меня, я бы хоть сейчас побежала с тобой в загс. Но давай послушаем маму, не будем ее огорчать.
Дмитрий что-то пробормотал в ответ, потом легко ссадил ее с коленей.
— Ступай, учи уроки. Да чтоб без единой тройки. Если будут тройки, буду меньше любить.
Этот разговор произошел неделю назад. Дмитрий вспомнил его по дороге в общежитие.
В комнате, где он доживал последние дни, стоял беспорядок. Три железных скелета прогнутых студенческих коек сиротливо стояли вдоль стен. Это означало, что трое жильцов комнаты уже уехали на каникулы. Три койки, кое-как заправленные, говорили, что их хозяева почти «на колесах». На подушке Дмитрия лежала телеграмма. Разорвав ее, он прочитал: «Мать больна. Если можешь немедленно приезжай. Целую Ирина».
Дмитрий прилег на койку прямо не разуваясь и положил ноги на стул, стоявший рядом. Закрыл глаза. Пять лет он не был на родине. Пять лет ему было все недосуг навестить мать, братьев, сестру. И вот теперь она больна. Что с ней? Уж если прислали телеграмму и просят, чтоб приезжал немедленно, значит, случилось что-то серьезное. Сердце заныло в предчувствии чего-то недоброго. Ольга, женитьба, государственные экзамены, работа, квартира в Москве — все это растаяло в туманном мареве нахлынувших воспоминаний. Теперь он видел другое. Забураненное метелями сибирское село, покосившаяся избенка, из которой ранним утром валит дым, мать, накинувшая на голову старенькую клетчатую шаль. Еще затемно она идет на колхозную ферму доить коров. Закоченевшая, с посеревшим от холода лицом, она возвращается с фермы домой часа через три. Ее ждут чугуны, горшки, ухваты. В хлеве протяжно мычит корова — ее нужно поить. В курятнике разорались оглашенные куры — им нужно истолочь картошку. В сенках надрывает слух мухортый пятнистый поросенок, который в день съедает больше, чем весит сам. В избе стоит теленок, под которым растеклась стеклянная остывающая лужица. А печка уже догорает, нужно выгребать угли и сажать хлеб. В квашне дуется подошедшее тесто, а хлебные плошки как назло три дня назад взяла соседка и до сих пор не несет. И мечется, мечется мать из угла в угол, из сенок в хлев, из дома к соседям… Мечется быстро, споро, накинув на плечи латаную фуфайку и покрывшись клетчатой шаленкой. Она боится помешать Дмитрию, когда он сидит над книгой. Слышит Дмитрий, как гремит о ведро обледенелая колодезная веревка, которую мать внесла в избу. Слышит ее шепот — это она посылает за водой Сашку, который никак не хочет слезать с печки. Сашка хнычет и трет кулаком сухие глаза. Ему неохота выходить на улицу и по сугробам, наметенным за ночь, пробираться к колодцу в соседнем огороде. А потом, он знал, мать пошлет дергать окоченевшими руками из стожка промерзшее сено.
— Не пойду. Я вчера ходил за водой… Пусть Митька сходит; все я да я. Уж тридцать лет, как холуев нет, — Сашка гнусавит спросонья, делает вид, что плачет, а у самого ни слезинки.
— Сходи, сынок, Митя уроки учит, у него сегодня контрольная, — просит мать вполголоса, стараясь, чтоб не слышал старшой.
Сашка продолжает гнусавить.
— У него контрольная, а у меня ее нет, что ли? У меня еще почище контрольная… У меня арифметика…
Терпение матери лопается. Она не выдерживает и, размахивая над головой мерзлой колодезной веревкой, сгоняет с Сашки сонную одурь, стаскивает его с печки. Поддерживая штаны, тот, как невольник, спускается по приступкам на пол и долго ищет валенок, который незаметно для матери сам же пнул куда-то за лоханку.
— Ну ладно, ладно, пойду, только не дерись… — Сашка кряхтит, чешется, надевает найденный валенок. Но тут как назло пропали варежки. Бродит осоловело по кухне, лезет в печурку, заглядывает под стол… Наконец варежки нашлись. Но они оказались мокрые, их с вечера не положили в печурку.
— Не пойду в сырых варежках. Гляди, палец вылазит, хочешь чтоб обморозил?
Терпеливая мать вздыхает, подает Сашке свои варежки.
— Ну когда же ты соберешься? Рядится, как вор на ярмарку.
— Вор, вор… Только и знаешь, что меня посылать… — Сашка садится на пол, затыкает соломой дырявый задник серого валенка и не выходит из избы до тех пор, пока мать не выталкивает его вместе с ведром.
Минут через десять Сашка возвращается. Воды в ведре на донышке, расплескал дорогой. Дмитрий не выдерживает, бросает уроки, молча одевается, приносит два ведра воды. Потом выносит корове в тяжелой лоханке теплое пойло, сбрасывает с сеновала сено…
…Шадрин силился припомнить хотя бы один случай, когда мать отдыхала днем. И не мог вспомнить.
Стук в дверь рассеял воспоминания. Дмитрий вздрогнул.
— Войдите! — бросил он раздраженно.
В комнату вошел Белявский. На лице его расплылась счастливая улыбка.
— Как дела, сибиряк? — спросил он, протягивая Дмитрию руку.
— Как сажа бела.
— Что случилось? У тебя нехороший вид.
— Читай. — Дмитрий протянул ему телеграмму.
Белявский прочитал телеграмму и с озабоченным лицом присел на стул.
— Я считаю, что нужно-таки немедленно ехать. То есть не так, чтобы очертя голову, но особенно не задерживаться.
— Ты что имеешь в виду? — спросил Дмитрий.
— Разумеется, чтобы не делать лишних расходов на дорогу, нужно твой перевод в Новосибирск оформить как можно быстрей. Если хочешь, мы попытаемся это сделать сегодня. И ехать! Немедленно ехать!
Шадрин привстал с койки, подошел к окну и настежь распахнул створки. Он чувствовал на себе тревожный взгляд Белявского, слышал его прерывистое дыхание.
«Наверное, бежал до самого четвертого этажа», — подумал Шадрин.
— В Сибирь я выезжаю сегодня. Но ненадолго, недели на две.
— Это же лишние расходы! Глупо и бессмысленно.
Шадрин подошел почти вплотную к Белявскому и в упор посмотрел ему в глаза.
— Через две недели я вернусь из Сибири и стану уже коренным москвичом.
— Как?! — Красивые глаза Белявского, обрамленные густыми пушистыми ресницами, недоуменно округлились.
— Очень просто. Я твердо решил остаться работать в Москве!
— Но это же нечестно! Мы же договорились! Это даже подло!
— Нечестно?! Подло?! — Ноздри Дмитрия вздрогнули и побелели. Наступая грудью на Белявского, который пятился к двери, он процедил сквозь зубы: — Ух ты… честнейший человек! Показал бы я тебе, что такое честность, да нельзя. Марш отсюда! — Носком ботинка Шадрин отворил дверь, в которую задом выскочил побледневший Белявский.
В этот же день Дмитрий получил за два месяца стипендию и вечером зашел к Ольге. По виду его она поняла, что у него не все благополучно.
— Почему ты такой бледный? Ты себя плохо чувствуешь? Был у профессора? Ну что он сказал? — Ольга закидывала Шадрина вопросами.
— Профессор сказал, что проживу сто лет, — ответил Дмитрий, а сам думал совсем о другом — и это Ольга видела.
— Так почему же ты такой взволнованный?
Дмитрий молча подал телеграмму и сел в холодок, на скамейку около крыльца, затянутого зелеными бубенчиками распустившегося плюща.
Ольга прочитала телеграмму и села рядом с Дмитрием.
— Ну что ж, Митя, нужно ехать. Так, зря, не вызывали бы.
— Я тоже думаю, что нужно ехать.
— А деньги на дорогу есть?
— Сегодня получил стипендию за два месяца.
Вечером Дмитрий выехал в Сибирь.
Шадрин лежал на верхней полке и слушал разговор, происходивший в купе. Подсевший на маленькой станции жидкобородый мужичонка в первый же час езды вывернулся чуть ли не наизнанку, рассказал всю свою подноготную: и куда едет, и откуда, и зачем едет. На вопрос соседа «Что нового в деревне?» он ответил хрипловатым дискантом:
— По Указу метут! Ох и метут! Аж пырхи летят.
— Кого метут? Из кого пырхи летят?
— Да все из них же, кого зовут спекулянтами да дармоедами. Работать хотят их заставить. У себя в колхозе не хочешь работать — поезжай с богом на Дальний Восток, а то и на Сахалин скатертью дорога. Там народу мало, рабочие руки вот как нужны! — Ребром ладони мужичок провел по горлу, обросшему редкой щетинкой.
— А как же это делается? Через суд или административно? Кто решает: трудовой он элемент или нетрудовой?