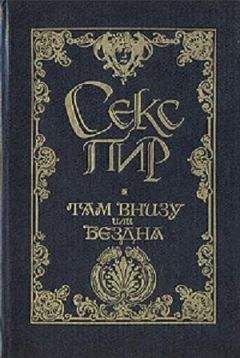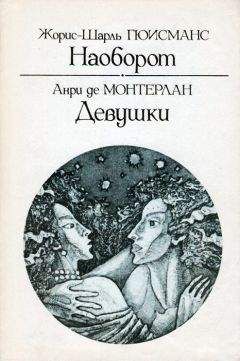В антологию входили избранные отрывки из "Ночного Гаспара" Алоизия Бертрана, кудесника, перенесшего приемы Леонардо да Винчи в прозу и написавшего металлическими окисями яркие и переливчатые, как эмаль, картинки. За "Гаспаром" дез Эссент поместил "Vox populi" Вилье, а также вещицы со следами стилистических изысков на манер Леконт де Лиля и Флобера, затем добавил несколько фрагментов из "Нефритовой книги", которая нежно благоухала женьшенем, чаем и ночной родниковой водой, вобравшей в себя лунный блеск.
Из забытых журналов дез Эссент тоже извлек кое-что и включил в свою коллекцию стихотворения "Демон аналогии", "Трубка", "Бедненький, бледный ребенок", "Прерванный спектакль", "Грядущий феномен" и, самое главное, "Осеннюю жалобу" и "Зимнюю дрожь", эти подлинные шедевры Малларме и лучшие из его стихотворений в прозе. Тождество языка, мысли и чувства было поразительным: мерная речь убаюкивала, как дивная мелодия или грустное заклинание, идея сообщалась силой внушения, а резкие нервные токи пронизывали вас до восторга, до боли.
Стихотворение в прозе было любимым жанром дез Эссента. У гениального мастера оно, как считал дез Эссент, становится как бы романом, то есть наделено размахом большой книги, но лишено аналитических и описательных длиннот. Дез Эссент очень часто представлял себе роман в нескольких фразах -- выжимку из сотен страниц с их изображением среды, характерами, картинами нравов и зарисовкой мельчайших фактов. Это будут слова, столь тщательно отобранные и емкие, что восполнят отсутствие всех прочих. Прилагательное станет таким прозрачным и точным, что намертво прирастет к существительному и откроет читателю необозримую перспективу; оно позволит неделями мечтать и гадать над его смыслом -- и узким, и широким; и душу персонажей выявит целиком: очертит в настоящем, восстановит в прошлом, провидит в будущем. И все это благодаря одному-единственному определению.
Роман в одну-две страницы сделает возможным сотворчество мастерски владеющего пером писателя и идеального читателя, духовно сблизит тех немногих существ высшего порядка, что рассеяны во вселенной, и доставит этим избранникам особое, им одним доступное наслаждение.
Нет нужды говорить, стихотворение в прозе было для дез Эссента квинтэссенцией и сутью писательства, его эликсиром.
Им овладел Бодлер, но он давал о себе знать и здесь, у Малларме, и это приводило дез Эссента в упоение.
Когда он закрыл вторую подшивку, то понял, что новых книг в его библиотеке, судя по всему, больше не появится.
С этим ничего нельзя было сделать, словесность находилась в упадке. Неизлечимо больная, она зачахла от ветхости идей и излишеств стиля, как всякий больной, возбуждаясь на время только от занятных безделок. Однако еще при жизни она спешила наверстать упущенное, насладиться впрок и выразить невыразимое, чтобы перед отходом в мир иной оставить в наследство вязь воспоминаний о своей болезни. Сильнее, ярче всего этот упадок дал о себе знать именно в поэзии Малларме.
Его стих как бы суммировал написанное Бодлером и По. Он черпал свои силы из тонкого и сильного вина их творчества, но благоухал и пьянил по-новому.
В нем умирал старый язык, который с незапамятных времен от века к веку терял силу и разлагался, пока наконец не приказал долго жить, как это произошло с латынью в темных по смыслу конструкциях св. Бонифация и Адельма.
Впрочем, все иначе: французский язык распался внезапно. Латынь умирала долго: от прекрасных и пестрых глаголов Клавдиана и Рутилия до искусственных в 8-м веке прошло четыре столетия -- долгий срок. Но никаких столетий и рубежей в умирании французского. Пестрый и прекрасный стиль Гонкуров и искусственный слог Верлена с Малларме столкнулись, став соседями по времени, веку, эпохе.
Взглянув на оба ин-фолио, лежавших на столике-аналое, дез Эссент улыбнулся и подумал, что придет день, когда какой-нибудь эрудит составит об упадке французского языка многотомный труд по примеру премудрого Дю Канжа, который стал летописцем последних вздохов, бессвязного бормотания и агонии латыни, умиравшей от старости в монастырской келье.
ГЛАВА XV
Увлечение дез Эссента питательным отваром вспыхнуло, как щепка, и, как щепка, погасло. Пропавшая было нервная диспепсия возобновилась, и от мясного пойла у него началась такая изжога, что он совсем от него отказался.
Болезнь снова вступила в свои права. Пришел черед новых пыток. Прежде были кошмары, расстройство зрения и обоняния, сухой, размеренный, как часы, кашель, шум крови, сердцебиение и холодная испарина. Теперь начались слуховые галлюцинации -- именно то, что заявляет о себе, когда болезнь достигла апогея.
Мучаясь от сильного жара, дез Эссент вдруг услышал, как журчит вода и жужжит оса, а потом журчанье и жужжанье слились в один звук, напоминавший скрип колеса. Затем скрип смягчился, приобрел мелодичность и перешел понемногу в сереб ристый колокольный звон.
И дез Эссенту почудилось, что его разгоряченный мозг несется по музыкальным волнам, кружится в вихре мистических воспоминаний детства. Вновь зазвучали гимны, выученные некогда в иезуитской школе, и, навеяв былое, они вызвали в памяти часовню, в которой пелись. Видение приобрело запах и цвет, став дымком ладана и лучами света, пробивавшимися сквозь витражи стрельчатых окон.
У отцов-иезуитов богослужения проходили торжественно. Органист и певчие были очень хороши, поэтому музыкальное| сопровождение службы приносило подлинное эстетическое наслаждение, и это было выгодно церкви. Органист обожал старых мастеров и по праздникам непременно исполнял мессы Палестрины и Орландо Лассо, псалмы Марчелло, оратории Генделя, мотеты Баха. Зато отец Ламбийот со своими вялыми и несложными композициями был у него не в чести, и он гораздо охотнее играл "Laudi spirituali" 16-го века, -- церковная красота этих песнопений снова и снова пленяла дез Эссента.
Но он приходил в еще большее восхищение, слушая церковный хор, непременно -- что противоречило новым порядкам -- в сопровождении органа.
В наши дни церковное пение считается пережитком, достопримечательностью прошлого и музейным экспонатом, хотя когда-то было солью христианского богослужения, душой средневековья. Каноны пелись, и голос поющего, то сильный, то слабый, славил и славил Всевышнего.
Это испокон веков звучавшее пение, мощное в своем порыве и пышное по гармонии, словно краеугольный камень, было неотъемлемой частью старой базилики. Оно переполняло своды романских соборов, казалось их порождением и гласом.
Несколько раз дез Эссент был прямо-таки потрясен необоримым духом грегорианского хорала, когда в нефе звучало "Christus factus est" и в клубах ладана дрожали столбы; или когда органными басами гудело "De profundis", мучительное, как глухое рыдание, пронзительное, как крик о помощи. Казалось, это человечество оплакивает свою смертную долю и взывает к бесконечной милости Спасителя!
В сравнении с этими дивными звуками, порожденными церковным гением, столь же безвестным, как и создатель органа, вся остальная духовная музыка казалась дез Эссенту светской, мирской. В сущности, ни Жомелли, ни Порпора, ни Кариссими, ни Дюранте и, даже в самых замечательных своих вещах, ни Бах, ни Гендель не в силах были отказаться от успеха у публики и отречься, жертвуя красивостями своей музыки, от гордости творца ради полной смирения молитвы. Только в величественных мессах Лесюэра, исполнявшихся в Сен-Рошском соборе, церковный стиль был серьезен, царствен и прост и потому приближался к суровому величию старого пения.
И, давно уже, возмущенный вмешательством, -- будь то приписки к "Stabat", сделанные Россини или Перголези, -- современного искусства в церковное, дез Эссент как чумы бежал духовной музыки, которая благосклонно принималась церковью.
К тому же, подобные опусы, одобренные якобы не ради денег, а для привлечения паствы, стали уподобляться итальянской опере и выродились в гнусные каватины и непотребные кадрили. Церковь превратилась в будуар или, скорее, в театральный балаган: вверху надрывали горло профессиональные актеры, а внизу дамы демонстрировали свои туалеты и млели от певунов-филантропов, нечестивые завывания которых оскверняли священный орган!
Дез Эссент много лет избегал этих богомольных угощений и питался одними лишь детскими воспоминаниями. Он пожалел даже, что несколько раз слушал "Те Deum" великих композиторов. Ведь он помнил восхитительный "Те Deum" в хоровом исполнении и не мог забыть этот гимн, полный простоты и величия. Сочинил его, должно быть, безвестный святой монах, один из многочисленных Амвросиев или Илларионов. Нынешней сложной оркестровой техники и музыкальной механики там не было, зато была пламенная вера и ничем не сдерживаемый порыв души. Казалось, звуки этой проникновенной, благочестивой и воистину небесной музыки возвещают о ликовании, веры всего человечества!