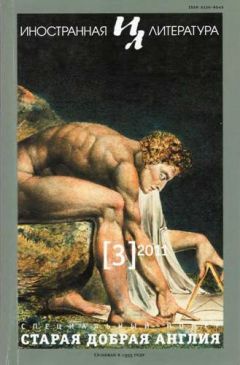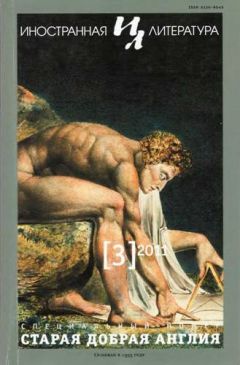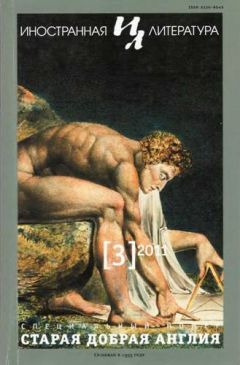на происходящее. Шло бы оно все к черту! Зато теперь-то понятно… Знаешь, просто живя тут с тобой, я столько открыл для себя! Ты первый из моих знакомых, кто правда понимает, в чем суть всего.
Прежде я никогда с Амброзом так не говорил. Казалось, еще чуть-чуть, и я ему в любви признаюсь. Но как бы я ни хотел, чтобы сказанное мной было правдой, звучали мои слова неискренне, и это тяготило сильней всего… Пьяный, я все же устыдился, к тому же Амброз по-прежнему хранил молчание. Он и сам явно смутился. Однако остановиться я уже не мог.
– Ты показал мне ужас Англии. Неудивительно, что ты ее так ненавидишь.
– Разница довольно-таки существенная, мой хороший. – Амброз виновато откашлялся. – Ну, между тем, как ее ненавижу я, и тем, как ее ненавидишь ты.
– В чем она, эта разница? – спросил я. Что-то мне в его тоне не нравилось.
– Мне в Англии не место.
– А мне, значит, место?
– Ну…
– Думаешь, во мне есть нечто, чему нужна Англия?
– Я не то имел в виду…
– Думаешь, я тут не счастлив? – В моем голосе зазвучало легкое отчаяние. – А что, я мог бы остаться тут на несколько лет, запросто. Хоть до конца жизни… В чем подвох? Ты мне не веришь?
– Не сомневаюсь, ты веришь в это, душа моя.
– Считаешь, что у меня не выйдет?
– Не выйдет, мой хороший. Надолго тебя не хватит. Не выдержишь.
– Почему же?
Амброз снова молча улыбнулся.
Я почувствовал себя отвергнутым и протрезвел. Конечно, Амброз был совершенно прав, но показывать, как сильно это мне не по душе, я не хотел.
– Что ж, не будем спорить, – как можно беззаботнее сказал я. – Кто из нас не прав, мы все равно не выясним, ведь мне, вообще-то, надо уехать. Вернуться в Лондон, и довольно скоро. Я уже некоторое время подумывал об отъезде.
Амброз хранил молчание.
– Уж коли настроился на какое-то дело, – продолжил я, – то лучше обстряпать его сразу, согласен?
Повисла пауза.
– А вообще, – произнес я медленно, не спеша, – думаю, ничто не помешает мне уехать завтра же.
Уж это-то должно было расшевелить Амброза, но он и словом не возразил. Только пожал легонько плечами.
– Как будет угодно, мой хороший.
От такого безразличия я на миг утратил самоконтроль.
– Амброз, – недоуменно начал я, – тебе что, не… – Я вовремя осекся, чуть было не сказав: «Тебе что, неважно, останусь я или уеду?» – Ты не против, если останешься здесь совсем один, наедине с парнями?
Амброз поднял на меня нежный взгляд, словно упрекая за глупый вопрос.
– Человек всегда один, душа моя. Тебе ли не знать.
Пути назад не было, и на следующий день я стал собираться. Амброз не суетился и помогал. Мой отъезд он воспринял донельзя обыденно, а стоило сказать, что палатку я оставляю, как он лишь мысленно прикинул ее нынешнюю стоимость – с учетом износа – и вычел эти деньги из моего счета.
Рыбацкая лодка, которая должна была отвезти меня в Халкис, задерживалась. Уплыл я только с закатом. Амброз спустился к берегу меня проводить.
– Не удивлюсь, если скоро снова покажется Джеффри, – сказал я, чувствуя, что должен как-то его утешить, хотя Амброз ни малейшим образом не показывал, что нуждается в этом.
– Возможно, так и будет, – буднично согласился он.
– И Ганс тоже.
– Не удивлюсь.
Он пожал мне руку, совсем как хозяйка пикника.
– Приятной поездки, – сказал Амброз. Со стороны можно было решить, будто мы только сегодня встретились; будто я сосед, который позвонил и заглянул на чай.
Лодка, пыхтя, пошла прочь, а я, сидя на корме, смотрел назад. Таким прекрасным этот остров, когда он черным силуэтом выделялся на фоне расплавленного серебра моря, подсвеченный гаснущей зарей, я еще не видел. Стоял полный штиль. В спокойное небо поднимался, завиваясь, жиденький дымок. Готовили ужин. Горела на кухонном столе лампа. На глаза навернулись слезы. Мне не просто было жаль уезжать; картина вызывала острое ощущение чего-то невинного и первобытного. Как пейзаж, стоянка первопоселенца на старом холсте. Смотришь на нее и говоришь себе: а ведь там правда кто-то живет, один, в глуши!
Когда я встал у зеркала в номере отеля и присмотрелся к себе хорошенько, то поразился тому, что сотворили со мной последние несколько месяцев. Волосы длинные и всклокоченные, борода отросла; я дочерна обгорел на солнце, лицо от пьянства сделалось одутловатым, а глаза – красными. Внешность, конечно же, можно было быстренько привести в порядок, но вот во взгляде появилось нечто новое. К тому времени, как я вернулся в Англию, меня уже узнавали без труда, и только я сам то и дело замечал проблески этого нового взгляда в зеркале, когда брился.
Нередко, на шумной вечеринке, или слушая дурные известия по радио, или просыпаясь посреди ночи в кровати с кем-то малознакомым, я думал об Амброзе, как он там, один. Он был прав – говорил я себе тогда, – мне не место на его острове.
Однако теперь я знал, что в Англии мне тоже не место.
Как и где бы то ни было.
Вальдемар
Я на борту парохода.
Конец августа 1938-го; пересекаю Ла-Манш, и мы заходим в порт Дувра.
Его бухта неизменно кажется маленькой! Узкий клинышек, вдающийся в сырную голову древних утесов; желтовато-серый кукольный городок, на страже которого под легкой летней моросью стоит небольшой упрямый замок. Все кругом такое знакомое, непреклонное, глядит на тебя пристальным взором! Громко и непочтительно орут в вышине чайки! Сомкнув ряды, англичане обращаются лицом к гостям: вот мы, мол, примите нас такими или проваливайте; тут все по-нашему – свои обычаи забудьте. Последних из них успел застать Байрон. И еще Уайльд. Простившись с ними, ты отправляешься на поиски славы и смерти среди испанцев, но им до этого нет никакого дела. О да, если твое имя было на слуху за пределами острова последние два поколения, они допустят, что шапочно с тобой знакомы. Ни за что не признают, что ошибались насчет тебя или еще чего-то. Они несгибаемы, уперты и так самодовольны, что о ком-то ниже себя если и заговорят, то едва ли слышно, и поскупятся на лишний жест. А если тебе есть что предъявить им, у них всегда наготове ответ: не нравится – не приезжай.
Когда-нибудь, размышляю я у заграждения на палубе, это коснется и меня. Придет еще время. Отчего же я вернулся сюда в прошлом месяце из Китая, хотя мог бы остаться в Нью-Йорке, куда меня так тянуло? Не могу объяснить. Я лишь пассивно вращаюсь по дуге, как бумеранг, лечу обратно. Но чья рука меня швыряет? Я не знаю, и мне не интересно… Или же я боюсь выяснить? Отвечать на этот вопрос я отказываюсь. Просто верчусь себе и верчусь.
Похоже на речь умалишенного или хотя бы человека, познавшего глубокое отчаяние? Вовсе нет! Вы только гляньте на меня!