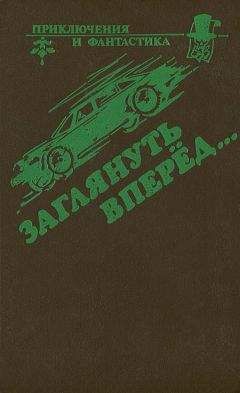Второй набросок
Вы пишете мне как обер-ефрейтор, который был под Сталинградом, и один раз я уже пытался написать вам ответ; ваше письмо смутило меня, а именно кругом вопросов, в которых, как я думаю, речь идет не о том, что у нас разные отечества. В начале этого года я в течение месяца был в Германии; там тоже не проходило дня, чтобы не судить о чем-нибудь - то так, то этак; там человек разрывается, и что самое тягостное: постоянно упрекаешь себя, что вообще судишь. Я это думаю в общем и целом; ведь в какой-то мере всегда остаешься иностранцем. Как можем мы судить о женщине, раз мы никогда не сможем родить ребенка? Как можем мы судить об отце, чьего возраста мы еще не пережили? Как вообще можем мы судить о человеке, который всегда будет кем-то другим? Всякое суждение есть высокомерие, и тут ваше возмущение, возможно, оправданно, независимо от того, что и немцы, как вы знаете, всегда судили о других народах.
Что делать?
Никто не хочет быть фарисеем, только не фарисеем; но, может быть, действительно являешься им, возможно, не всегда, но по меньшей мере тогда, когда озабочен благопристойным обликом собственной персоны, а не бедствиями, существующими на наших глазах, не познанием их причин. Прощение, напрашивающееся как ближний выход, тоже, конечно, уже предполагает осуждение. И собственно, нет никакой разницы между тем или иным видом высокомерия, прибавляется еще только боязнь, что окажешься повинным в высокомерии, и, таким образом, становишься еще более трусливым, не хватаешься за нож, потому что не хочешь резать по собственному мясу, вынося свои суждения. Молчишь и кажешься себе христианином, наслаждаясь собственным состраданием, состраданием того сорта, которое ничего не меняет; простой отказ от того, чтобы отважиться на суждение, еще далеко не есть справедливость, не говоря уже о добре или даже любви. Это просто ни к чему не обязывает, и больше ничего. Но как раз эта необязательность, молчание по поводу злодеяния, о котором знаешь, - может быть, это и есть самый распространенный вид нашего соучастия в нем.
Третий набросок
Вы пишете мне как обер-ефрейтор, который был под Сталинградом, но, поскольку чем больше я читаю ваше письмо, тем меньше могу вас понять, мне ничего, видимо, не остается иного, как рассказать о нашем местоположении, если это представляет для вас интерес. Вопрос о нашей компетентности, поставленный вами, действительно относится к числу вопросов, занимавших нас до полного одурения еще во время войны, когда вовсе не было уверенности, что мы останемся пощаженными. Кто в те годы писал и молчал о тех событиях, которые дошли до нашего сведения и разрушили многие добрые верования, тот в конце концов тоже, разумеется, дал ясный и совершенно определенный ответ на это; он встретил это время не проклятиями, не приговорами судьи, а мирным трудом, пытающимся отобразить наличие другого мира, его долговременность. Он высказывал свое отношение к текущим событиям, причем не воспринимая их, как того требовали другие, в качестве единственно сущих, а, напротив, противопоставляя им все, что еще носит название жизни. Может быть, это даже и есть, если только не является пустой отговоркой, самое насущное дело, единственно необходимое. Правда, опасность превращения его в пустую отговорку всегда подстерегает пощаженных всех родов. Писатели воюющей страны прошли через огонь, открытый, зримый для всех, и то, что им осталось еще сказать, во всяком случае, выдержало испытание. Также и в наших глазах, прежде всего в наших глазах они предстают в ореоле очищенности. Появляются, конечно, и фальшивые ореолы, и они, как следовало ожидать, нашли и коленопреклоненных гельветов. Но будем говорить только о настоящих. Что могут, по сравнению с ними, сказать художники нашей страны?
Трудный вопрос.
Мы не испытали на себе войны - это одно; с другой стороны, мы тоже пережили известные события, определившие нашу жизнь. То, что война нас касалась, хотя и пощадила нас, известно каждому. Наше счастье было кажущимся. Мы жили у порога застенка, мы слышали крики, но кричали не мы; мы сами не пережили всей глубины страдания, но мы находились слишком близко от страдания, чтобы можно было смеяться. Наша судьба казалась пустым пространством между войной и миром. Нашим выходом было - помогать. Будни, проводимые нами на этом острове, были полны чужих лиц: беженцы всех видов, пленные и раненые. Хотели мы того или нет, более неотступной картины времени не могло быть перед народом, стоящим вне войны. Мы имели даже то, чего не имели воевавшие страны, а именно: двойную картину. Боец может видеть сцену, только пока он сам находится на ней; зритель же видит ее все время. Конечно, у нас были свои страстные желания, но не нужда бойца: не искушение мстить. Может быть, это и есть тот действительный подарок, что достался пощаженным, и их действительная задача. Они могли иметь ставшую редкостью смелость быть справедливыми. Более того! Они должны были ее иметь. Это единственное достоинство, которое дает нам право на место в кругу страдающих народов.
(Не отправлено.)
1947
Portofino, сентябрь
Вчера я получил верстку моего прежнего дневника, это всегда малоприятная задача - попятная работа. Читать самого себя! Мне для этого требуется много чинзано. Что не должно означать, будто писать не доставляет удовольствия. Я не брошу. Но время от времени, имея верстку в руках, все же задаешься вопросом, какой интерес это может представлять для других; берешь сигарету и поглядываешь вокруг себя, наблюдаешь за людьми, бредущими по площади, рассматриваешь их - как много на свете разных людей: спортсмен и светский человек, который всегда, как только поднимается ветерок, уводит у меня из-под носа единственную сдаваемую напрокат парусную лодку, здоровый и милый человек, но не читатель, я думаю, равно как и те семь рыбаков, что идут босиком, с засученными штанинами по площади, равно как и дамочка, что подражает этой манере носить штаны, или пожилая чета, слоняющийся без дела меняла и спекулянт с античным лицом, те двое влюбленных, что все время держат руку друг у друга на бедре... Своего читателя, мне кажется, надо себе представлять; это уже часть работы - придумать читателя, симпатичного, критичного, не слишком превосходящего тебя, но и не уступающего тебе, партнера, который радуется, что нас донимают одни и те же вопросы, и не злится, когда наши взгляды расходятся, не проявляющего надменность, когда он что-то знает лучше, не глупого, серьезного, но не зануду, а главное - не мстительного. Наш читатель: создание твоей фантазии, не более нереальный и не более реальный, чем персонажи рассказа, пьесы; читатель как ненаписанная роль. Ненаписанная, но вполне определенная, заменяющая написанную; будет ли это роль школьника, которого поучают, или роль судьи, радующегося, когда он может уличить в противоречии, роль апостола, обязанного восхищаться нами, роль кумира, чьей благосклонностью мы упиваемся, или роль просто партнера, сотрудника, который вместе с нами ищет, и спрашивает, и дополняет нас, человеческого спутника, - это зависит от меня, пишущего, и я не могу ни от кого требовать, чтобы он взял на себя ту роль; я могу только радоваться, если кто-то - он или она - это делает: где-нибудь на солнце или под лампой, в поезде, в кафе, в каком-нибудь зале ожидания жизни, и особенно - если делает это талантливо.
Ничто не было бы прекраснее комедии, но не старинной, это должна быть современная комедия, по мне, пусть обряженная в костюмы, комедия о наших проблемах. Возможно ли такое? Потребность в ней велика, как и вообще потребность в веселом и в основе своей бесспорном согласии, правда согласии, которое не уклоняется от наших действительных вопросов и нашего сегодняшнего сознания. Это, пожалуй, главное. Комедия, которая просто уклоняется, может в лучшем случае развлечь; тогда уж, мне кажется, трагедия, не увертывающаяся от нашего сознания, все-таки даст нам больше утешения.
Почему нет такой комедии?
Можно три часа подряд смеяться, трястись от хохота, и это не будет комедия. Одних лишь шуток недостаточно. Так называемый хохот всегда дело второстепенное, никогда не показатель того, что пьеса - комедия. Вполне мыслима веселость без всякой шутки, радостно-утешительная, вытекающая из непреодолимой уверенности, перед которой все страдания и страсти, разыгрывающиеся вокруг, кажутся несоразмерными и потому комичными. Комедия, я думаю, - это вопрос не фабулы, а атмосферы.
Ее не может быть без великой уверенности, без ощущения, что, в сущности, все обстоит наилучшим образом и нас ожидает только хороший конец, спасительный конец, в этом та божественная, золотая основа, которой мы горячо желаем и без которой нет настоящей комедии. У Клейста в "Разбитом кувшине" * за комизмом суда, вершимого людьми над людьми, стоит непоколебимая вера, что есть суд сверхчеловеческий, находящийся по ту сторону комизма; господин судебный советник Вальтер - вот кто носитель золотой основы в качестве действительного наместника бога на земле. Тут сомневаться не приходится. В "Минне фон Барнхельм" * и в других настоящих комедиях - их достаточно мало - эта уверенность не всегда метафизическая, часто вполне достаточно веры в общественный порядок. Смеются над отступлениями от него, над досадными извращениями его, но в основе можно его утвердить; общество, которому показывают комедию, наилучшее из всех возможных. Существуют графы и слуги, и иной раз, как показывает комедия, слуга куда лучше, благороднее графа, да, слуга, безусловно, заслуживает, чтобы его возвели в дворянство, и награждение титулом комично, ибо несоразмерно, комично именно в этом случае; но в том, что вообще существуют графы и слуги, господа и крепостные, - в этом комедия ничего не меняет. Иначе от веселья ничего не останется. Общество утверждается по меньшей мере в своей идее, и притом без сомнений; тем более дерзко можно, не оказываясь еретиком, смеяться над ее незадачливым осуществлением. Комедия набожна. Набожна, как Аристофан! Он верует в Афины, это несомненно, иначе он не мог бы так разделывать афинян, и у него есть также основания веровать в свой полис; невзирая на Клеона, Аристофан верует *, иначе он стал бы не Аристофаном, а шутом или трагиком. Как минимум, должен быть утвержден человек, просто человек; как минимум или как максимум. Человек - лучшее творенье божье, его шедевр. Наши страсти в иных случаях кажутся, возможно, дурацкими; человек верит, а его обманывают, и его вера предстает несоразмерной, комичной, потому что он всегда расточает ее на недостойную личность; но на той же сцене находится другая личность, которая, если б он только захотел это заметить, безусловно, сделала бы его счастливым. Безусловно - вот в чем штука. Можно было бы быть счастливым! Или же мы смеемся над лицемером, зная, что тартюфы в конечном счете так ничего и не достигают. В конечном счете; это может выясниться в пятом акте или на небесах. Добродетель торжествует всегда; саму золотую основу не царапают; одна она, а не отдельные шутки, полнит нас весельем, которое и дает в конце концов комедии название веселой пьесы, - золотая основа уверенности, что справедливость восторжествует и что все имеет смысл, по мне, пусть вечно скрытый, но все же смысл; без этой уверенности, которая должна быть набожной и безусловной, может появиться только сатира, остроумная, но не весело-утешительная... Дон Кихот комичен, потому что все, что он говорит и делает, несоразмерно; он слишком много читал, этот добряк, и вот мы видим его, оснащенного феодальными речениями, выезжающего в насквозь буржуазный мир, видим жертву беллетристики, во все времена состоящей из антикварных речений; все совсем иное, чем его величавые плетения, полезнее, безобразнее, менее великолепно, но жизнеспособно и животворно. Мир, дурачащий рыцаря, в основе своей утверждается Сервантесом. Это все-таки реальный мир, возможный мир, и мы сочувствуем не трактирщицам и птичницам в том, что они не принцессы, а дворянину из Ламанчи, который так и не научился распознавать трактирщиц и птичниц. Что бы было, если бы мир, делающий из Дон Кихота трогательного дурака, тоже был невозможным миром, пустым призраком, ушедшим в прошлое, утраченным, нереальным и нежизненным, не заслуживающим утверждения? Что сталось бы с нашим смехом над его ошибкой, если бы это была не ошибка?..