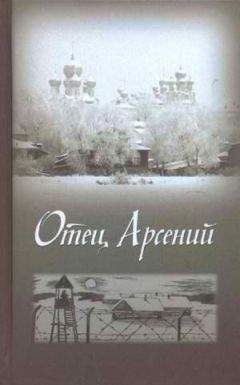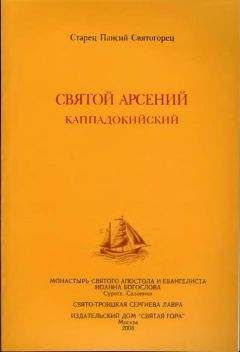Молчаливый и всегда замкнутый, заключенный оживился, глаза заблестели, голос окреп, и он спокойно, почти властно заговорил. Говорил необычайно задушевно, профессионально, обоснованно и убедительно, продолжая развивать мысль о. Арсения о влиянии музыки на человека.
Один из заключенных, стоявший около нар, стал пристально вглядываться в лицо говорившего и вдруг воскликнул: «Позвольте! Позвольте! А я Вас знаю, Вы пианист», – и назвал фамилию выдающегося музыканта.
Музыкант вздрогнул, смутился и проговорил: «Если бы Вы знали, как мне не хватает музыки! Если бы Вы только знали! С ней я прожил бы даже здесь».
Кто-то глупо спросил: «За что Вы здесь?» И музыкант необычайно серьезно ответил: «По доносу друга, а вообще за то, за что мы все здесь», – сказал и, сразу отойдя, лег на свои нары.
Выражение тоски и отчужденности после этого разговора еще больше легло на его лицо, взгляд стал совершенно отсутствующим, отзывался он только на второе или третье обращение.
Мы видели, что человек ушел в себя, потерял связь с другими, а в условиях лагеря это было равносильно смерти.
Прошел месяц, и музыкант совершенно ослаб, с трудом ходил на работу, нормы выполнял все меньше и меньше, соответственно уменьшался и паек.
Отец Арсений несколько раз пытался заговорить с ним или чем-нибудь помочь, но все было безуспешно. Музыкант не слушал, отвечал невпопад или уходил. Как-то о. Арсений обратился к окружающим: «Гибнет человек без музыки, что бы ему достать для игры?» – и один из уголовников, любивший о. Арсения, сказал: «В красном уголке есть гитара разбитая, попробую ее с ребятами позычить».
В «особом» имелся красный уголок, в котором никогда не проводилось никаких мероприятий, хранилось несколько десятков книг, никому не выдававшихся, и в шкафу валялась сломанная гитара. Красный уголок всегда был заперт, но, вероятно, в лагерных отчетах начальства числился как необходимая принадлежность для «политической перековки» заключенных – зеков. Неизвестно, какими путями «взяли» уголовники гитару из запретного уголка и принесли в барак. С треснутой декой, оставшимися пятью струнами, облезлым лаком, она производила жалкое впечатление. Всем было ясно, что в бараке гитара долго не продержится, при первом же обыске ее отберут, но появление гитары в бараке было событием и развлечением.
Нашелся заключенный, который приклеил деку, почистил лак. Два дня гитару уголовники прятали, а на третий день, когда дека подсохла, после вечерней поверки и обысков положили гитару на нары музыканта, когда он был в другом конце барака.
Пришел музыкант и, сев на нары, задел рукой струны, они жалобно зазвенели, он испуганно обернулся, схватил гитару, растерянно посмотрел на окружающих и стал настраивать ее. Вначале струны дребезжали, звуки нестройно метались, потом окрепли, и музыкант заиграл.
В пяти-шести местах уголовники резались в самодельные карты, где-то стучали костяшками домино, озлобленно ругались, разговаривали, молча лежали на нарах, и вдруг барак внезапно наполнился звуками. Они охватили людей, ругань стихла, стук домино прекратился, карты легли на колени. Что-то неизмеримо большое, родное, чуть-чуть грустное, необыкновенно близкое для каждого заключенного вошло в барак и стало с ним рядом.
В звуках возникали и приходили родные места, поля, покрытые травами, оставленные и потерянные навсегда жены, матери, дети, лица любимых женщин, друзей.
Все светлое, хорошее, что жило в людях, всколыхнулось, пришло и встало рядом. Грубость, жестокость лагерной жизни ушла. Заключенные стояли, сидели или лежали притихшие, озаренные прошлым. Что играл музыкант, было сейчас неважно. Может, это была его музыка, но гитара пела проникновенно, пела и рассказывала о прошлом. Мы слушали, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя, то налетая на камни. Это по-человечески билось нечеловеческое сердце музыканта, которое, вопреки окружающей нас обстановке, все осветило, дало жизнь и радость.
Звуки лились, объединяя необъединимое, они были среди нас, хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от слушавших их людей, и наступил момент, когда струны зазвучали все печальней и печальней, они рыдали, стонали и тихо протестовали. Музыка отделила людей от гнетущего настоящего, от проклятой действительности.
Вдруг по коридору прогромыхали шаги, раздвигая стоявших людей, к музыканту шел высокий, черноволосый человек, искаженное лицо покрывали размазанные слезы – это был известный в бараке уголовник, жестокий и безжалостный.
«Прекрати, зануда, музыку, не береди душу. Прекрати, пришибу». Уголовник шагнул к музыканту с поднятой рукой, но кто-то из стоявших уголовников схватил черноволосого и выбросил в коридор. Потом было слышно, как он рыдал в конце барака.
Звуки рассказывали о страданиях, невыносимом горе, тоске, этапах, лагере. Сердце невыносимо сжималось, но наступил момент, когда страдание и горе стали постепенно исчезать из музыки, приходило спокойствие, умиротворенность, казалось, что человек нашел свой путь. Музыкант рассказывал сейчас в звуках свою жизнь, но слушатели прочли в них нашу жизнь. Игра оборвалась, и музыкант несколько мгновений сидел неподвижно. Кто-то из стоявших сказал: «Спойте нам!» Подняв голову, музыкант запел тихим и хрипловатым, но чрезвычайно выразительным голосом. Это была старинная русская песня:
«Что вы голову повесили, соколики мои?
Разлюбила! Ну так что ж,
Стал ей больше не хорош,
Буду вас любить, соколики мои».
И сейчас же все окружающие оживились и заулыбались.
Голос музыканта был, конечно, не для певца, но столько было в нем теплоты и задушевности, что это покорило слушателей. Кончив песню, он заиграл вальс «На сопках Маньчжурии» в замедленном темпе, и тихие, всем знакомые звуки этого вальса как-то особенно обрадовали и сблизили всех.
Расходились молча. Музыкант сидел на нарах, прямой, спокойный, просветленный, бережно держа в руках гитару. Большие глаза смотрели в темноту и благодарили всех за гитару.
Мы с о. Арсением сидели на нарах, лицо его было задумчивым и сосредоточенным. «Он верующий, глубоко верующий, – проговорил о. Арсений, – он сегодня рассказал нам об этом в звуках музыки».
Гитара прожила в бараке два дня, и за эти дни музыкант переродился: повеселел, оживился, стал общительным. Уголовники дали ему прозвище «Артист» и взяли его «под закон», что соответствовало лагерной терминологии «охраняем».
Отобрали гитару на утренней поверке, нашли в тайнике, донес кто-то из «сексотов». Музыканту дали три дня карцера. Какое-то время музыкант был бодрым и веселым, но потом сник.
Недели через три, ночью, о. Арсений почувствовал, что его кто-то дергает за рукав. «Извините меня, извините! Ночь сейчас, но мне необходимо поговорить с Вами. Знаю, Вы священник. Давно хотел подойти к Вам, да все боялся, а теперь чувствую, что пришло время мое. Спасибо Вам за гитару. Узнал стороною, что от Вас все исходило. Выслушайте! Я коротко. Простите, что разбудил».
Склонив голову к о. Арсению и обдавая его своим горячим дыханием, музыкант шепотом рассказывал о себе, скороговоркой выплескивая свои мысли. «Господи! Господи! Как я грешен!» – повторял он время от времени. Видимо, все, что он говорил, было давно продумано и выстрадано.
Слезы временами падали на руку о. Арсения. «Господи! Господи! Грешен я очень, но зачем они отняли у меня музыку?»
Отец Арсений долго молился вместе с музыкантом.
Недели через три музыканту на работах раздробило кисть левой руки, а через недели две из лагерной больницы с одним из выздоровевших заключенных пришло от музыканта письмо.
В записке было: «Не забывайте меня перед Господом, смерть стоит со мною рядом. Молите Бога обо мне».
Записано по воспоминаниям лиц, бывших в лагере,
и рассказу о. Арсения. 1959 г.
Знакомство мое с о. Арсением было давнее, по тогдашним лагерным временам, около года, но, зная друг друга, встречались мы мало, а слышал я тогда о нем много.
Потянулся я к нему в пятьдесят третьем году.
Летом перегоняли нас этапом на «времянку», строить в необитаемом месте бараки и заложить ствол шахты.
Идти надо было сорок километров, в общем-то недалеко. За три дня с ночевкой и тащимым грузом дойдешь. Солнце невыносимо жжет, гнус и комары забираются в малейшую щелку. Идем одетые, душно, тяжко. Лицо и руки зудят от укусов гнуса и пота. Летом в жару часто бывало даже труднее, чем зимой в морозы. Идем, ноги свинцовые, груз оттягивает руки, плечи; одежда прилипла к телу, и это еще больше затрудняет движение. Желание у всех одно: броситься на землю, распластаться, прижаться к ней и никогда, никогда больше не вставать, что бы ни случилось, что бы ни произошло после, но какая-то непреодолимая сила заставляла двигаться вперед, волочить по земле ноги, мучительно, переживая каждый пройденный метр, идти и идти…