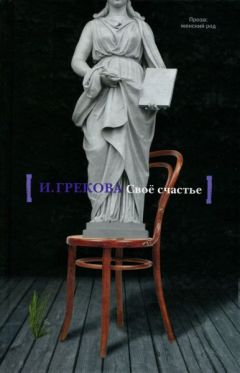— У меня нет души.
— Ничего у вас нет. Может быть, у вас найдется сигарета?
— Найдется, — ответил Нешатов, вынимая из кармана мятую пачку «Друга». — А вам на что?
— Давайте закурим.
Серые глаза Нешатова расширились и словно еще дальше отошли один от другого. Маска удивления. «До чего же выразительное лицо!» — подумал Ган.
— А разве вы курите? Я думал, вы боитесь дыма, как черт ладана.
— А я и не курю. Только в минуты крайнего волнения.
— Что же вас сейчас взволновало?
— Ваш уход. Давайте сядем. В ногах правды нет.
— «Но правды нет и выше», — механически продолжил Нешатов.
— Есть она выше.
Они свернули с площадки по коридору и вошли в одно из пустых помещений. Какие-то ведра с кистями стояли в углу; посреди пола — скамья, табуретки. Пахло краской. В институте всегда шел какой-то перманентный, ползучий ремонт.
Ган вытер скамью носовым платком, оба сели. За пыльным окном ярким оранжевым бликом светилось далекое стекло, отражая закат. По сереющему небу сновали ласточки.
— В совместном курении все-таки есть какая-то прелесть, — сказал Ган. — Недаром есть понятие «трубка мира». Мне категорически нельзя курить, я давно уже бросил, но иногда об этом жалею.
— Что вы хотели мне сказать?
— Не сказать, а спросить. Что у вас было в голове, когда вы по-дурацки вскочили и ринулись к двери?
— Мне показалось, что Кротов, говоря об авторе писем, которому надо уйти, и притом немедленно, имел в виду меня.
— Вы с ума сошли!
И тут лицо Нешатова просияло. Он превратился в кого-то другого. Он улыбался — буквально улыбался! Были видны его всегда скрытые зубы. Поразительно красивые зубы! Как добела отчищенные, овальные миндалины.
— Борис Михайлович, — сказал этот новый, неузнаваемый Нешатов, — повторите, пожалуйста, вашу самую последнюю фразу.
— Вы с ума сошли.
— Нет, повторите ее с выражением, восклицательно.
— Вы с ума сошли! А что?
— Отлично! Какое счастье! Я после больницы долго мечтал о том моменте, когда мне кто-нибудь скажет: «Вы с ума сошли!» Так ведь говорят только здоровым, безукоризненно нормальным людям! Пускай преступникам, пускай негодяям, но нормальным! Спасибо вам, Борис Михайлович!
Ган в волнении втянул дым и с непривычки закашлялся.
— Бросьте эту дурацкую сигарету, — счастливо заторопился Нешатов, — да и я, пожалуй, брошу свою. Утопим их в ведре с краской. Позволим себе такое детское хулиганство! Можно ведь сегодня, а?
Ган ничего не понимал. Нешатов понемногу успокаивался, хотя с лица его не сходило выражение счастья.
— Борис Михайлович, — спросил он, — в чем все-таки дело с этими анонимками? Кто их писал, если не я? Это, кажется, Митя Карамазов спрашивал: «Кто убил отца, если не я?» Вы же с самого начала знали об анонимках! Как, по-вашему, кто? Говорите честно!
— Честно говорю: не знаю. Понятия не имею. Иногда у меня распухает голова, и мне начинает казаться, что это писал я сам, но почему-то забыл. Есть такое явление: амнезия.
— Знаю, сам испытал. Но у вас ее нет. Я в этом разбираюсь. А Фабрицкий что думает?
— Пока вслух об этом не говорит. Не обсуждает даже со мной.
— Может быть, он подозревает меня?
— Скорее всего, нет. Вначале, возможно, и подозревал.
— А вы, Борис Михайлович? Подозревали вы меня хоть минуточку?
— Ни секунды.
— Почему так? Объясните.
— Это трудно объяснить. Есть непосредственное «чувство человека», как бывает, скажем, чувство опасности или чувство меры. Оно работает инстинктивно, но безошибочно. Ему некритически веришь. Это вне разума, чистая интуиция.
— Я это понимаю. «Есть многое, друг Горацио...» Меня что-то сегодня тянет на цитаты. Вам не кажется, что я сумасшедший, но в маниакальной, эйфорической стадии?
— Нет, не кажется. Но боюсь, что другому на моем месте могло бы показаться. Поэтому вы не слишком-то демонстрируйте себя в новом обличье.
— Не буду. К тому же оно может оказаться временным. Впрочем, не думаю. Я говорю сумбурно, поток сознания, но вы меня понимаете. О, вы всегда меня понимали, с самого первого дня, когда мы с вами встретились там, в вашем кабинетике под форточкой с косым крестом. Знаете, какую роль вы сыграли в моей жизни? Если бы не вы, я до сих пор сидел бы затворником в квартире Ольги Филипповны, слушал поезда, продавал книги... А сейчас я живу. Меня даже в чем-то подозревают. Скажите, Борис Михайлович, а другие сотрудники отдела думают, что это писал я?
— Может быть, некоторые и думают. Сегодняшнее собрание всех ошеломило. Прибавьте к этому ваш нелепый уход... Возможны разные толкования, но наиболее естественное...
— Отлично! Давайте так и оставим меня в роли подозреваемого. Я буду в этой охоте, так сказать, подсадной уткой, — Нешатов захохотал.
— Юрий Иванович, пожалуйста, тише! Они идут.
По лестнице спускались. Слышался картавый басок Кротова, масленый баритон Шевчука, высокий светлый смех Фабрицкого. Ган с Нешатовым вышли на площадку как раз в тот момент, когда спустился Фабрицкий. Тень непроницаемости легла на его лицо.
— Александр Маркович, можно вас на два слова? — спросил Ган.
— Пожалуйста, — без особой любезности отозвался Фабрицкий. — Кстати, что это был за демонстративный выход? Вы, Юрий Иванович, человек новый, а Борису Михайловичу пора бы знать, что в нашей среде демонстрации не приняты.
— Именно Юрий Иванович хочет вам сказать несколько слов.
— Хорошо, я вас слушаю, — сказал Фабрицкий с несвойственным ему равнодушием на лице.
— Скажите, пожалуйста, вы меня подозреваете в авторстве анонимок?
— Мы же условились не касаться вопроса «кто».
— Да, но собрание кончено, идет частная беседа. Давайте обсудим вопрос «кто». Но сидя. Как говорит Борис Михайлович, в ногах правды нет.
— Правда выше, — сказал Ган.
— Что за странная манера разговаривать у вас обоих, — сказал Фабрицкий. — Ладно, сядем, если это нужно.
Скамья в захламленной, пахнущей краской комнате вместила уже не двоих, а троих. Оранжевое сияющее окно успело погаснуть. Сумерки овладевали пространством.
— Александр Маркович, — сказал Нешатов, — у меня были причины писать на вас анонимки. Я вас терпеть не мог. Вы меня раздражали своей победительной манерой. Неудачники вообще не любят победителей. К этому прибавилась обида на то, что вы тянули дело с дисплеем. Теперь я понял почему и больше претензий к вам не имею. И еще я сердился на вас за то, что вы мне поручили дурацкую работу по переводу этих Reviews, которая казалась мне ниже моих возможностей. У меня вообще преувеличенное мнение о моих возможностях. После сегодняшнего собрания мое отношение к вам изменилось, но не окончательно...
— У вас были причины писать на меня анонимки, и вы их писали?
— Не торопитесь. Выслушайте меня внимательно. Поглядите мне прямо в глаза. Даю вам честное слово, что это не я писал анонимки и не имею к ним никакого отношения. Верите вы мне?
Фабрицкий чуть-чуть помолчал и ответил:
— Верю.
— Я так и знал, что вы поверите! Поверил же мне Борис Михайлович, даже раньше, чем об этом зашла речь! Он сказал мне: «Вы сошли с ума».
— Именно так, — подтвердил Ган.
— Вот видите. А теперь, после того, как вы мне поверили, я готов изменить мнение о вас еще круче.
— Это необязательно. Сегодня я столько наслушался лестных слов, что для разнообразия мне ваше неодобрение даже приятно. Продолжайте меня слегка не одобрять.
— Постараюсь. Но не это важно. У меня к вам обоим деловое предложение. Я остаюсь в роли подозреваемого, кандидата номер один на вакансию анонимщика. Это притупит его бдительность. Рано или поздно он себя выдаст.
— А что? В этом что-то есть, — подумав, сказал Фабрицкий. — Ваше мнение, Борис Михайлович?
Ган помотал головой:
— Слишком экзотично. Сбивается на литературу. К тому же вы, Юрий Иванович, при вашей несдержанности все равно себя выдадите.
— Будьте покойны, не выдам. Буду тише воды, ниже травы сидеть в углу и молчать, действуя всем на нервы. Но самое важное: кроме нас троих, об этом не должен знать никто.
— Даже Анна Кирилловна?
— Даже она. Впрочем, нет, — сказал Нешатов, — ее, пожалуй, придется посвятить, а то она будет ломать стены и двери, защищая своего ученика. А ее молчание будет косвенным доказательством моей вины.
— Все-таки хотелось бы знать: кто это писал?
— Мне кажется, автор достаточно ясно себя обнаружил.
— Это Нешатов, что ли?
— Разумеется.
— Не верю я в его авторство. Он способен скорее на явную, чем на скрытую гадость.
— Ни на какую гадость он не способен. Просто озлоблен.
— А почему же тогда после слов Максима Петровича: «Уйти не завтра, а сегодня, сейчас» — он сорвался с места и выскочил за дверь?
— А за ним сразу же Борис Михайлович. Может быть, это он писал?
— Оригинальная мысль.
— Мысль как всякая другая.
— Не помню, кто из писателей сказал: «Мысль материальна, она может убить».