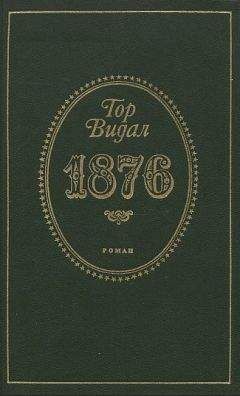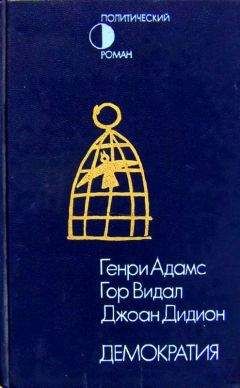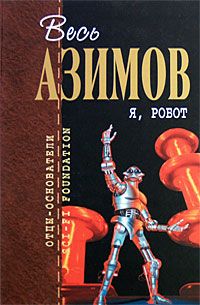— «Париж под коммунарами» — лучшая и серьезнейшая работа из всех, какие мне довелось прочитать о коммунизме.
Мне кажется, я покраснел. Конечно, у меня закружилась голова от нежданной похвалы, поэтому я не сразу сообразил, что он, как и все прочие, переврал название. Но с названиями мне вообще не везет. Следует, очевидно, уподобиться мастерам и придумывать нечто выразительное, сильное, запоминающееся. «Госпожа Бовари», «Хижина дяди Тома», «Холодный дом» — один раз услышав или увидев, эти заглавия уже не перепутаешь.
Мы были уже у парадной двери, когда Нордхофф сказал:
— Вы должны познакомиться с мистером Рузом. Он человек редкой осведомленности. Если вы нас извините… — он повернулся к Эмме; она ответила ему извиняющей улыбкой.
Тогда Нордхофф провел меня в маленький табачный магазин, вход в который был тут же, внутри, справа от парадной двери. Здесь можно купить не только сигары, сигареты и плитки жевательного табака, но также газеты и журналы со всей Америки. Мистер Руз — фигура, полная сенаторского достоинства; торжественно Поздравив меня с прибытием в Вашингтон, он вручил Нордхоффу конверт (его лавка еще и своего рода почтовая контора).
— Наш специальный телеграф вон там, если он вам вдруг понадобится, мистер Скайлер. — В следующей комнате и в самом деле помещалось это современное удобство, предоставленное компанией «Вестерн юнион». Руз пообещал также оставлять для меня ежедневно экземпляр «нашей» газеты, «Нью-Йорк геральд».
Длинная вереница карет постоянно дежурит возле гостиницы, но Нордхофф предложил — «если Эмма не возражает» — пройтись пешком до ресторана под названием «Уэлчер».
— Это недалеко отсюда, и почти на всем пути есть тротуар.
Эмма не возражала.
— Это Африка! — шепнула она мне по-французски, когда мы передвигались по неровному кирпичному тротуару, на котором удобно расположились — как у себя дома — десятки чернокожих. Одни выпивали, другие играли в кости, третьи извлекали печальные звуки из самодельных дудок, а в отдалении, возвышаясь надо всем вокруг, плыл, как мечта, изваянная из белоснежного мыла, Капитолий, окруженный постоялыми дворами.
Хотя солйце j село, вечер был неестественно теплым. Движение йо широкой улице почти совсем прекратилось, если не считать трамваев, которые с неимоверным грохотом носились взад и вперед. Когда мы повернули за угол точно напротив министерства финансов, Нордхофф показал высокий вяз, названный по имени художника и изобретателя Морзе. Очевидно, некая ужасная догадка вроде земного тяготения посетила его под сенью этого дерева.
— Как мило, — сказала Эмма.
Нордхофф издал какой-то странный лающий звук, в котором я со временем научился распознавать смех.
— Единственные добрые слова, которых этот город заслуживает, такие: он был еще хуже пять лет назад, пока мы не заполучили в мэры нашего собственного босса Твида, местного преступника, который грабит город напропалую, но одновременно хотя бы мостит улицы.
— Никто не жалуется?
— На мостовые? Конечно, да! Земляные работы проведены так неумело, что во время дождя чуть ли не весь город превращается в Венецию.
— Да нет, я имела в виду воровство.
— Боже мой, нет, конечно! В конце концов, это американский образ действий. Кое-что все-таки улучшается. Как бы этот город ни был ужасен, это все равно рай земной для большинства членов конгресса. В сравнении с тем^ откуда они приехали, это город неслыханных удобств и поразительной архитектуры. А вот Белый дом.
В темноте за высокими деревьями показалось большое, похожее на пустую коробку белое здание.
— Очаровательно, — сказала Эмма. Со времени моего приезда в Вашингтон к зданию пристроили стеклянные оранжереи; они нисколько не улучшают его нежилой вид.
— Внутри он еще хуже, — сказал Нордхофф. Затем он повел нас на Пятнадцатую улицу, в ресторан, который помещается в обычном кирпичном доме типа тех, что в Нью-Йорке строятся из песчаника. Как прекрасно, кстати, что в этом городе нет ничего коричневого, если не считать негров, конечно. Большая часть вашингтонских домов сложена из темно-красного кирпича, этот цвет радует мне душу, но Эмме напоминает запекшуюся кровь.
Нордхофф повел нас вверх по лестнице в главный обеденный зал; черный метрдотель, плюшевые портьеры, старомодные турецкие ковры. Свет только от свечей, это большое облегчение после вездесущих нью-йоркских кальциевых ламп.
Эмма села, как бы совершенно не замечая, что публика с нее не сводит глаз.
По всей зале губы округлились, точно застыв раз и навсегда на последней букве слова «кто?».
— Завтра меня замучают расспросами, — ухмыльнулся Нордхофф. — Все захотят узнать, кто были мои гости.
— Гостья, — поправил я. — Все пялятся на Эмму.
— Это всё сенаторы? — взгляд Эммы стремительно обежал комнату, точно театральную сцену или экран диорамы.
— Сенаторы этажом выше, княгиня. В маленьких обеденных комнатах, где столы ломятся от бутылок, где дымятся длиннющие сигары…
— С дамами?
— Иногда. Но обычно они предпочитают обедать с другими сенаторами и плести заговоры с целью опустошения казны.
— Как заманчиво! Значит, эти люди… — Она снова обвела взглядом наших сотрапезников.
— Это лоббисты. Они встречаются с сенаторами только в темных аллеях, где деньги переходят из рук в руки.
— Создается впечатление, — сказала Эмма, — что правительство здесь существует только для того, чтобы давать и забирать деньги.
— Аминь! — крикнул Нордхофф, чем изрядно напугал людей за соседним столиком. И принялся, «за счет Джейми, разумеется», заказывать нам отличную еду (снова черепаха, снова маленькие восхитительные крабы из Мэриленда). Карта вин выше всяких похвал.
Я с легкостью полюбил бы Вашингтон, если бы мне не нужно было о нем писать. Нордхофф чрезвычайно любезно предоставил в мое распоряжение свои заметки о деле Бэбкока, и теперь у меня в голове уже почти сложилась первая корреспонденция: общие впечатления от города после сорокалетнего отсутствия, а также разрозненные мысли о коррупции, «спиртной афере» и О. Э. Бэбкоке.
— Советую вам встретиться с Бристоу, министром финансов. Это он наносит смертельные удары Гранту.
— Своему собственному президенту? — Эмма начинает проявлять неожиданный интерес к политике. А я начинаю подумывать, не обманывался ли я в ней всю жизнь. В течение многих лет я всегда брал Эмму с собой, когда отправлялся в Сент-Гратиен к принцессе Матильде, где разговоры касались искусства, тогда как она была бы куда счастливее в политическом салоне или даже в Тюильри, пытаясь завязать разговор с беднягой императором, который был пропитан политикой-с головы до ног и в такой степени являл собою политического гения, что стал со всей неизбежностью одним из самых больших зануд во всей Франции: он не мог уже ни с кем ни о чем существенном говорить откровенно. К счастью, Эмма один год пробыла фрейлиной императрицы и, подозреваю, наслушалась политических разговоров. В отличие от Наполеона III императрица ни о чем другом вообще не говорила; она тоже была политиком, но весьма скверным, и из-за нее мы («мы» или «они»? «Мы». Это моя страна, то есть была моя страна) ввязались в войну с Пруссией и нашему миру пришел конец.
На заметку: неподкупный Бенджамин X. Бристоу из Кентукки стал министром финансов в июне 1874 года. К всеобщему изумлению, он оказался честным человеком. Обнаружив, что его министерство напичкано жуликами, он постарался выгнать их вон.
Так называемая «спиртная афера» началась в 1870 году, когда Грант назначил своего закадычного дружка генерала (разумеется!) Джона Макдональда начальником налогового управления в Сент-Луисе. Как и Бэбкок, Макдональд служил у Гранта при Виксбурге, а всякий, кто служил ÿ великого полководца во время этой выдающейся кампании, мог, если того желал, получить ключ от монетного двора. Так или иначе, налог на виски шел из западных штатов не в казну, а в карман Макдональда, его друзей, а также Бэбкока и, вероятно, самого президента. На сегодняшний день украдено около десяти миллионов долларов.
— Неужели замешан сам президент? — Я просто умирал от любопытства.
Нордхофф пожал плечами.
— Подозреваю, что да. Уж конечно, его не раз предупреждали о махинациях Бэбкока; теперь же он делает все возможное, чтобы приостановить следствие.
— Но это ведь так естественно — пытаться спасти свою администрацию. — Эмма, как всегда, высказалась весьма практично.
— Точно так же рассуждают «стойкие». Но все же суд в Сент-Луисе идет своим чередом, и Грант выразил готовность лично дать показания в пользу Бэбкока.
— Так может рассуждать человек честный, но недалекий, — сказала Эмма.
— Или хитрый обманщик, — сказал Нордхофф. — Во всяком случае, кабинет министров отговорил его от поездки в Сент-Луис.