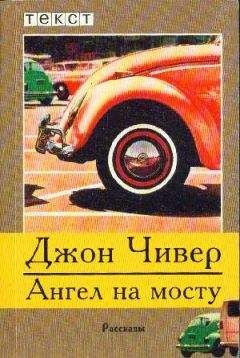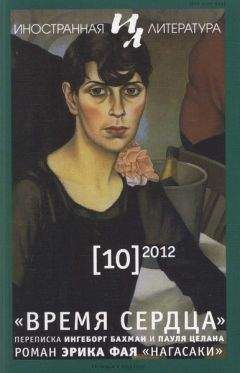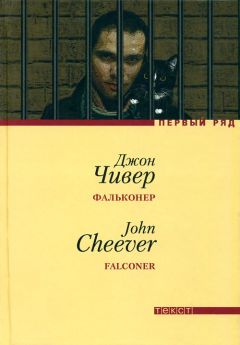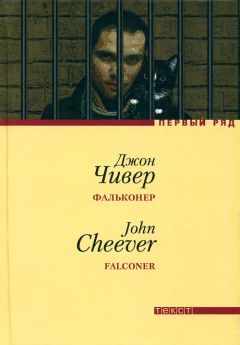- Нет, милый, - сказала она, - сегодня нельзя. Нет. - Она перешла в другой конец комнаты и смотрела на него оттуда. Лицо ее было нежное, подернутое дымкой нерешительности, но когда он сделал было к ней шаг, она опустила голову и энергично ею мотнула.
- Нет, нет, нет, - повторила она, - сегодня нельзя. Никак нельзя.
- Но мы еще увидимся?
- Ну конечно же! Только не сегодня.
Она подошла к нему и прислонила к его щеке ладонь.
- Теперь идите, - сказала она. - А я вас позову. Вы очень, очень милый, но вам пора уходить.
Спотыкаясь, он выбрался на улицу. Он был ошеломлен. И вместе с тем он испытывал удивительное чувство собственной значимости. Он провел всего три, от силы четыре минуты с ней, а между тем в этот короткий срок они умудрились узнать друг друга, понять, что друг к другу подходят как любовники. Как могли они сблизиться так скоро, без всякого усилия? И куда девалось его понимание добра и зла, его страстное стремление быть человеком достойным, мужественным и - за пределами брачного ложа - целомудренным? Он принадлежал к англиканской церкви, был избран старостой, причащался часто и с жаром, искренне исповедовал те догматы, которые чувствовал себя призванным защищать. Он уже совершил смертный грех. И вместе с тем, проезжая под кленами в эту летнюю ночь и подвергнув свою душу самому тщательному экзамену, он не обнаружил в ней ничего, кроме добродетели, благородства и необыкновенно возросшего чувства огромности вселенной. Кое-как расправившись с яичницей-болтуньей и проиграв свои вариации, он лег и попытался уснуть.
Что его мучило больше всего - это воспоминание о груди миссис Загреб. Он лежал в постели, ожидая сна, и ему казалось, что весь воздух пронизан мягкостью и благоуханием этой груди; она сопровождала его сновидения, и проснулся он с ощущением, что лежит, уткнувшись лицом в эту грудь, сверкающую, как мрамор, и отдающую сложным и нежным привкусом летней ночи.
* * *
Утром он принял холодный душ, но грудь миссис Загреб, казалось, сторожила его за шторкою. Всю дорогу на станцию в машине он ощущал ее нежное прикосновение к своей щеке, она читала газету из-за его плеча и тряслась вместе с ним в пригородном поезде, а затем в метро, и в течение всего рабочего дня не оставляла его ни на минуту. Ему казалось, что он сходит с ума. Как только он прибыл домой, он схватил записную книжку жены с телефонами, которая всегда лежала на столике в передней. Это было не очень остроумно с его стороны, зато в местном справочнике он сразу нашел телефон миссис Загреб и позвонил.
- Ваши брюки готовы, - сказала она. - Можете приезжать за ними когда хотите. Хоть сейчас.
Когда он к ней постучался, она крикнула ему из гостиной, чтобы он входил, и тотчас протянула ему брюки. Он вдруг растерялся и решил, что все вчерашнее было лишь игрой его воображения и что только теперешнее его смущение и есть реальность. Миссис Загреб, вдова, мастерица, проживающая на углу Кленовой аллеи в доме с облупившейся краской, протягивает приведенные ею в порядок три пары брюк мужчине не первой молодости, страдающему от одиночества. Миром правит здравый смысл, освященные браком страсти и непреложные догматы веры. Миссис Загреб тряхнула головой. Значит, это у нее привычка такая, и мытье головы тут ни при чем! Она откинула прядь со лба и расчесала пальцами свои темные кудряшки.
- Если вы не торопитесь, - сказала она, - мы могли бы посидеть. Не хотите ли вы чего-нибудь выпить? Там, на кухне, все есть.
- Я бы с удовольствием чего-нибудь выпил, - сказал он. - А вам приготовить?
- Я выпью стаканчик виски с содовой.
Печальный и торжественный, подчиняясь подпочвенному току чувства, которому не дано выбиться на поверхность, он прошествовал на кухню и наполнил два стаканчика. Когда он вернулся в гостиную, миссис Загреб сидела на диване. Он подсел к ней, и его тотчас подхватил вихрь, центром которого были ее губы. Его трижды перевернуло и сбросило вниз, вниз, вниз, в бездонную шахту времени. Диалог внезапной любви один и тот же всюду, во всех странах мира. На всех языках мы кричим друг другу из-за подушки: "Хеллоу-хеллоу-хеллоу-хеллоу!", словно ведем какой-то нескончаемый телефонный разговор через моря и океаны. И всюду любовница, обнимая любовника, вздыхает: "О любовь моя, зачем ты так горька?"
Она восхищалась его волосами, его шеей, изгибом его позвоночника. От ее кожи исходил слабый запах мыла - и никаких духов, и когда он что-то об этом сказал, она тихо возразила: "Но ведь я никогда не душусь перед встречей с любовником!" Они поднялись, держась друг за друга, по узкой лестнице в спальню. Это была самая большая комната в ее маленьком доме, но сама по себе она была невелика. Мебель была старенькая, когда-то, давным-давно, покрашенная белой эмалью, да и было этой мебели мало, как на даче. На полу лежал белый потертый ковер.
Ее гибкость, все ее приемы приводили его в радостное изумление. Ему казалось, что он набрел на источник неслыханной чистоты. До этого часа он ни разу, так ему казалось, не встречал такой чистой, такой жизнелюбивой и смелой души. Они кричали свое "хеллоу-хеллоу-хеллоу-хеллоу" до трех часов ночи, после чего она сказала, что ему пора уходить.
Он шагал по своему саду до половины четвертого, а то и до четырех. В небе висел только что народившийся месяц, воздух был мягок как шелк, повсюду струился мглистый свет, облака стелились, как песок на пляже, а в просветах сверкали звезды, как прибрежные ракушки и камешки. Какой-то цветок, из тех, что распускаются в июле - флокс или душистый табак наполнял воздух своим дыханием, и мерцающий свет этой ночи ничуть не изменился со времен его отрочества: как и тогда, свет этот возвещал о том, что в мире существует любовь. Но как же с догматами веры? Он ведь нарушил священную заповедь, нарушил ее и раз и другой, с неизменным ликованием и без тени раскаяния; больше того, он намерен ее нарушать и впредь, при всяком удобном случае. Следовательно, он совершил смертный грех и недостоин святого причастия. Но он не мог отделаться от чувства, что миссис Загреб при всей своей многоопытности являет собой редкий пример чистоты и добродетели. Но в таком случае он должен сложить с себя обязанности церковного старосты, придумать собственную систему, разграничивающую добро и зло, и отречься от догматов церкви. Но разве ему не известны случаи, когда люди хоть и изменяли супружескому ложу, тем не менее ходили к святому причастию? Сколько угодно! Неужели это значит, что церковь - всего лишь условность, житейское удобство, а причастность к ней - признак распада личности и лицемерия, способ продвижения вверх по общественной лестнице? А волнующие слова, которые так торжественно произносятся во время венчания и похорон, неужели это всего лишь принятый обычай, и религии в нем не больше чем в обычае снимать шляпу, когда в лифт входит женщина? Рожденный, воспитанный и вымуштрованный в церковной догме, он не мог себе представить отказа от веры. Ведь именно она и давала ему это чувство восхищения жизнью и всеохватывающей и всесильной любви, разлитой всюду и сверкающей как солнечный свет. Или попросить помощника епископа пересмотреть заповеди и вставить в обычную молитву несколько слов о чувстве великодушия и любви, которое наступает после любовного пиршества?
Он шагал по саду, переполненный своими мыслями о миссис Загреб. Благодаря ей он испытывал - пусть, иллюзорное - чувство, что ему выпала наконец ведущая роль: романтическая роль первого любовника, тогда как до сих пор он выступал только на ролях статиста моногамии - то носильщиком, то слугою, то гонцом. Один факт был несомненен во всяком случае - миссис Загреб вскружила ему голову. Неужели ее восторги по поводу изгиба его позвоночника были всего лишь коварной и бессовестной игрой на ненасытном и глубоко запрятанном мужском тщеславии? Уже светало, и, раздеваясь, он взглянул на себя в зеркало. Ну да, конечно, все ее комплименты - самая настоящая ложь: стекло отражало унылый и дряблый живот. А может, это ему показалось? Он втянул живот, потом выпятил его, посмотрелся в фас и профиль и лег спать.
* * *
На следующий день, в субботу, он себе составил расписание: подстричь газон и живую изгородь, наколоть дров для камина, покрасить зимние рамы. Он прилежно поработал до пяти, принял душ и приготовил себе коктейль. Он намеревался поджарить яичницу-болтунью и затем, благо небо было ясное, установить телескоп. Однако, выпив коктейль, он покорно поплелся к телефону и позвонил миссис Загреб. Он безуспешно звонил ей каждые пятнадцать минут и, когда стемнело, сел в машину и поехал на Кленовую аллею. В ее спальне горел свет. Остальная часть дома была погружена в темноту. Под кленами стояла большая машина, и на ней рядом с номером красовался герб штата Нью-Йорк. На переднем месте дремал шофер.
Во время святого причастия мистеру Эстабруку поручили собрать даяния верующих. Он не отказался, но, когда он встал на колени и начал исповедоваться, он не мог заставить себя признаться в том, что оскорбил святыню: нет, бремя грехов его не было невыносимым, а память о них мучительной. Он сочинил про себя благодарственную молитву, в которой славил верность и ум жены, ясные глаза детей и резвую гибкость любовницы. Он не принял причастия, и в ответ на вопрошающий взор священника чуть не отчеканил: "Да, я изменяю супружескому ложу и ничуть этого не стыжусь". До одиннадцати он сидел и читал газеты, потом позвонил миссис Загреб. Она сказала, что он может прийти когда угодно. Через десять минут ее косточки затрещали в его объятиях.