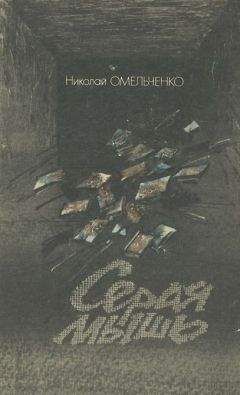Иногда мы вспоминаем прошлое, порой даже поспорим. Обнимая меня, она говорит:
— Всем хорошим, что у меня есть, чем я живу сегодня, имею кусок хлеба, дом и детей, я обязана тебе…
— Глупости, — сержусь я, — ты мне спасла жизнь!
— Нет, это ты спас меня! — начинает горячиться Джулия. — Представляешь: так и жила бы с горбуном!
Иногда мы спорим до крика.
Как-то к нам в спальню на крик вбежала невестка.
— Что случилось? — испугалась она.
— Представляешь, — капризным голосом говорит Джулия, — этот разбойник явился к нам в селение со своей Украины и похитил меня.
Да-нян лукаво щурит свои умненькие, и без того узкие глазки и говорит с доброй иронией:
— А зачем же вы поддались ему? Из разбойничьего источника, как гласит наша легенда, не стал пить Конфуций, даже умирая от жажды.
Джулия смеется и, не стесняясь невестки, повисает на моих ослабевших старческих плечах, молодо, как когда-то, целует меня.
Порой мы вспоминаем прошлое грустно и тихо, словно боимся разбудить больного. Мои воспоминания о том времени начинаются с провинциального шоссе, вдоль которого росли толстые платаны с подбеленными стволами и кучерявились зеленовато-пепельные деревца диких маслин. Я шел по этой дороге, покрытой трещинами и выбоинами, заросшими травой, — по ней теперь мало ездили, — и вслушивался в звуки. Когда впереди или сзади раздавались гул машины или треск мотоцикла, быстро нырял в кусты — я боялся людей в транспорте: зачастую они были и при оружии, а значит, и при власти. Вокруг царили безлюдье и тишина, и внезапно — выстрел, напомнивший мне тот, в горах Югославии, от которого погиб Василь Сулима. Я бросился в кусты, залег; сердце колотилось — неужели стреляли в меня? Но вот снова выстрел, а через некоторое время — и третий, уже почти рядом. Я поднял голову и выглянул из-за куста. Мужчина с ружьем стоял так близко от меня, что услышал шорох и испуганно обернулся, но не наставил на меня ружье, наоборот, закинув его за плечо, подошел ко мне.
— Ты кто и что тут делаешь? — спросил он почти безразлично, поднимая из травы какую-то небольшую птичку и пряча ее в висевшую у него на боку брезентовую сумку.
Я поднялся.
— Да вот шел, устал, лег отдохнуть и заснул. Ты стрелял, разбудил меня, — с трудом подбирая слова, объяснил я.
Мужчина уже с интересом посмотрел на меня, я тоже изучал его: по виду из крестьян, одет бедно, ружьишко допотопное; сам рыжий и веснущатый, на севере Италии такие нередки, — южане большей частью смуглые и курчавые.
— Руссо? — добродушно спросил он.
— Откуда это видно?
— По выговору. Я с вами встречался. В Одессе. Там меня и ранили, слава святой Мадонне, а то бы и вовсе не вернулся.
— Я украинец, против вас не воевал. В войну я был вашим союзником. — Я сказал это, чтобы как-то поддобриться к человеку, который мог сделать со мной сейчас все, что угодно.
Мужчина хмуро набычил свою рыжую голову.
— Не с твоими ли союзниками-немцами ты и к нам пришел? Так их уже вытурили; чего же ты тут околачиваешься?
— Я не воевал, я не военный, — жалея о том, что заговорил о немцах, ответил я. Мужчина, видно, не любил немцев, хоть в войну они были в одной упряжке.
— Значит, коммунист, если не с немцами…
Я молчал, не хотелось второй раз попадать впросак, хотя к коммунистам в то время в Италии относились гораздо лучше, чем к их противникам.
— Большая часть русских — коммунисты, — уже несколько добродушнее заметил мужчина, поняв мое, молчание, как нежелание открыться, что я коммунист, и заботливо спросил: — И куда же ты направляешься?
Я хотел сказать: «Куда глаза глядят», — но не мог перевести эту фразу на итальянский и произнес, показав рукой вперед:
— Просто иду…
— Понятно, сеньор. Есть хочешь?
— Хочу.
— Тогда собирай хворост, будем живность жарить. Тебя как зовут?
— Улас.
— А меня Винченцо.
Мы сидели у костерка, точь-в-точь, как где-нибудь у нас на Волыни, только поле здесь было поменьше, да костерик пожиже, да на горизонте топорщились бездымными трубами заводы, которыми так славится север Италии, и пекли мы в углях не нашу сахаристо-белую, рассыпчастую картошку, а жаворонков — их настрелял Винченцо из своего, вероятно, еще дедовского ружья. У нас на них не охотятся, даже в голод никто и не додумывался до того, чтобы убивать и есть эту птичку-певунью. Винченцо ловко разделывал испеченную тушку, укладывал ее на свой брезентовый охотничий подсумок, прищелкивал языком, приглашая меня к трапезе. Я вынул пачку галет. Винченцо округлил глаза, зачмокал губами.
— Американские? Откуда?
— Солдаты подарили.
— Значит, ты им оказал какую-то услугу, даром они ничего не дают. — Винченцо снова с любопытством поглядел на меня. — Может, и меня научишь, как у них подработать? Скажи все-таки, куда идешь, может, я тебе помогу.
Поначалу я молчал, не решаясь говорить правду. Мы ели жаворонков с галетами, это показалось мне необычайно вкусным, ничего подобного я никогда в жизни не пробовал.
Насытившись, Винченцо стал еще благодушнее; трапеза сблизила нас, как нередко сближает хорошая выпивка. И я рассказал ему все, как есть. Винченцо вздохнул:
— Жену тебе найти будет трудно, это почти безнадежное дело, во всяком случае, пока все не станет на свои места. К властям идти тоже не к чему, заграбастают. — Он задумчиво потер лоб с упавшими на него рыжими колечками волос, разломил надвое оставшуюся тушку, протянул мне. — Ешь. У меня их еще полсумки. Но когда я приведу тебя к моим, там уже есть это лакомство тебе не придется. У нас говорят: на улице не съешь из-за нищих, а дома — из-за детей…
— У нас тоже есть такая пословица, — почему-то обрадовался я.
— Несу я все это им, моим племяшкам. У сестры моей их восьмеро, а Теодоро, муж ее, в плену у американцев. Когда отпустят, неизвестно, может, его тот же ветер, что и тебя, носит по свету. Работает она одна. Можешь себе представить их бедность. Станешь у них на постой, может, когда чем-нибудь поможешь; мужчина в селе сейчас на вес золота. Только смотри, не приставай к Джемме, чтоб еще девятый без мужа не родился. В Бонифатти уже поприставали к вдовам похожие на тебя, но Джемма — не вдова, она вполне порядочная женщина, ждет своего законного мужа. И еще одно: полиция иногда делает налеты — так что прячься; люди у нас добрые, если никому зла не сделаешь, не выдадут. А мне в деревне делать нечего, я по профессии рабочий, меня, слава богу, взяли на завод, который на днях уже задымит. — Винченцо кивнул на толпящиеся на горизонте темно-красные корпуса с высокими трубами.
Так я попал в семью Орвьето, в селение Бонифатти, в Ломбардии. Повидал я на своем веку достаточно бедности, но подобного видеть еще не приходилось. Помнится, едва я ступил на крохотное каменистое подворье, в глаза мне бросилось единственное деревцо — вишня. Я обратил на него внимание даже не потому, что оно сразу же напомнило мне мою родную Волынь, — вид у этой вишенки был необычайный для летнего периода; на ней не росло ни единой ягодки, хотя бы какая-нибудь одна — сморщенная, усохшая. Винченцо, заметив мое недоумение, с грустной усмешкой сказал:
— Это несчастное дерево еще ни разу не видело своих зрелых плодов. Дети Орвьето обрывают их, едва опадает цвет.
Меня приятно насторожил запах мясного варева, окутавший вдруг этот бедный каменный дворик. Винченцо задрал голову и сморщил нос; вздохнув, покачал головой.
— Это пахнет макаронной подливкой из кухни горбуна Ремо. Через пять домов отсюда, а слышно. Они в это время обычно садятся обедать и открывают окна, чтобы все бедняки слышали запах их богатого обеда. — Винченцо окинул взглядом пустой дворик. — Видишь? В нем сейчас никого. Дело рук старшенькой, Джулии. Умненькая девочка для своих тринадцати лет. Как только начинают доноситься эти запахи, она сразу же
загоняет свое голодное стадо в дом, несмотря на жару, закрывает окна и заставляет детей спать. Но на голодный желудок не очень-то поспишь, этот сладкий мясной дух проникает и сквозь ставни. Не будем пока заходить в дом. Посидим здесь в тенечке, подождем Джемму, она скоро придет.
— Может, дать детям поесть, у меня кое-что имеется? — предложил я.
— А жаворонков я для кого принес? Рано еще есть, если дать им сейчас, к вечеру они снова проголодаются. А так Джемма приготовит из птиц какое-нибудь варево. Она работает в пекарне за два хлебца в день, приносит их к вечеру и тут же все съедают. — Он кивнул на брусок камня в углу двора, тень от дома накрывала его и нечто, похожее на крохотный огородик или скорее на плоскую клумбу из насыпной земли; там росли два крохотных кустика роз с небольшими бледно-алыми цветами и ощипанный лопоухий огородный латук. — Тоже дело рук Джулии, — усаживаясь на каменную скамейку, сказал Винченцо, — сама выращивает, сама поливает, но никак не может уберечь от своей голодной орды. Была морковка и лук — все повыдергивали, вот только и остались розы да ощипанный салат — огородный латук.