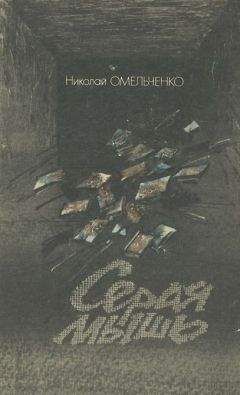— А жаворонков я для кого принес? Рано еще есть, если дать им сейчас, к вечеру они снова проголодаются. А так Джемма приготовит из птиц какое-нибудь варево. Она работает в пекарне за два хлебца в день, приносит их к вечеру и тут же все съедают. — Он кивнул на брусок камня в углу двора, тень от дома накрывала его и нечто, похожее на крохотный огородик или скорее на плоскую клумбу из насыпной земли; там росли два крохотных кустика роз с небольшими бледно-алыми цветами и ощипанный лопоухий огородный латук. — Тоже дело рук Джулии, — усаживаясь на каменную скамейку, сказал Винченцо, — сама выращивает, сама поливает, но никак не может уберечь от своей голодной орды. Была морковка и лук — все повыдергивали, вот только и остались розы да ощипанный салат — огородный латук.
— Джулия у них старшая? — спросил я безо всякого любопытства, только чтобы не молчать.
— Старшая. Ей тринадцать, но по уму и внешности ей можно дать все шестнадцать. Жизнь ее сделала взрослой.
Услыхав разговор, из дома вышла девушка, щурясь на яркое предвечернее солнце. Я почему-то сразу же понял, что это и есть Джулия. У нее были большие печальные глаза; даже когда она, глядя на нас, щурила их от солнца, они не казались меньшими. Со временем я понял, отчего это: из-за ее маленького, вконец исхудавшего лица и постоянно строгого выражения, какое бывает у очень молодых наставниц, не строгих, но пытающихся быть строгими, считающих, что любое проявление несерьезности, даже улыбка — это уступка своим воспитанникам. Позже я узнал Джулию совсем другой: строгость у нее всегда напускная, а вот серьезность и какая-то не детская и вообще не женская обстоятельность во всем, за что бы она ни бралась, проявились у нее еще с детства и остались навсегда. Цвет глаз я поначалу не рассмотрел, — не до того мне было, видел только, что они темные и глубокие, а уже потом увидел — они были карие, не по-детски печальные, а когда радовались, в них взблескивали фиалковые искорки. Когда она повзрослеет, станет женщиной, этот оттенок будет в них постоянно, даже в минуты печали, — будто отражается букетик фиалок. Джулия была коротко острижена, простоволоса, единственная одежонка на ней — платье из пенькового мешка с прорезанными дырками для головы и рук. Заметив незнакомца, она с достоинством кивком поздоровалась и спросила:
— Сеньор наш новый почтальон? Вы принесли письмо от отца?
Вероятно, мой рюкзак, а может, брезентовая сумка Винченцо, которая стояла у моих ног, заставили ее принять меня за почтальона.
— У сеньора нет дома и он временно лишился родины. Но у него молодые и крепкие руки, он может быть полезен вам в хозяйстве, — объяснил ей Винченцо и тут же добавил: — Но об этом мы поговорим с твоей мамой.
Джулия кивнула и ушла в дом.
Вскоре вернулась с работы Джемма. Она была еще молода, но крестьянская одежда — длинная черная юбка, полушалок на худых плечах, несмотря на жару, туго повязанный коричневый платок, закрывавший волосы и лоб, мужские ботинки, скорее всего мужнины, — делали ее старухой. Винченцо представил меня ей с теми же словами, что и Джулии, добавил лишь, строго поглядев на меня:
— Я сказал сеньору Уласу, что ты женщина замужняя, верно ожидающая из плена своего мужа, и на постой вы его возьмете с единственной целью: чтобы платил за угол. Денег у него, конечно, нет, значит, следует найти способ их заработать. Что сеньор Улас умеет делать, кроме своего учительства, которое здесь никому не нужно?
Я посмотрел на пыльные рваные ботинки Джеммы и вспомнил о своем сапожничестве в былые времена.
— Первое, что я сделаю, — ответил я, — пошью модные сандалии на эти красивые ноги.
Джемма зарделась, а Винченцо в ярости закричал:
— Ну, ты, парень, даже при мне делаешь комплименты этой честной женщине, а что будет потом? Откуда ты знаешь, какие у нее логи? Она ведь носит длинную юбку!
Не знаю, зачем я сказал о ногах, я никогда раньше не говорил женщинам таких комплиментов.
— Меня спросили, что умею делать, — смущенно оправдывался я. — Думаю, сапожничество — лучшее, чем сейчас можно заработать в селе.
— Но если ты будешь хорошо шить, то приобретешь известность, а она тебя, парень, погубит, — заметил Винченцо.
— Хорошо я шить не смогу, у меня нет соответствующих инструментов, — ответил я и вспомнил, какие у меня инструменты были на родине. Вспомнил и вздохнул: нет уже ни тех инструментов, ни тех людей, которые со мной работали…
— Наш сапожник Ринальди, — его взяли в армию и он погиб в бою с англичанами, — тачал обувь из старой клеенки. Он находил ее на свалке, а подошву строгал из деревяшки, — сказала вдруг появившаяся на пороге дома Джулия. Она слыхала весь разговор и вмешалась в него, как равная. — Если сеньор останется у нас, я постараюсь ему помогать. Я хорошо знаю заводские свалки, ходила туда вместе с Ринальди; там можно найти и кожзаменители, а если повезет, то и кусочки настоящей кожи.
— Молодец, Джулия! — восторженно воскликнул Винченцо. — Вы не представляете, какую разумную мысль сейчас подала эта девчонка! Если она ходила на эти свалки с сапожником, то он мог научить ее и своему ремеслу. В крайнем случае, она сама могла научиться, глядя, как тот работает. Ринальди был нашим соседом. Джулия по-прежнему будет ходить на свалку, собирать все нужное, а сеньор Улас будет шить. Но реализовывать продукцию должна Джулия, выдавая ее за свою, — заключил Винченцо.
— А инструмент? — спросил я.
— Мы его одолжим у вдовы Ринальди. Зачем он ей? Это я берусь сам уладить. Ей-то первой я и скажу о способностях к сапожному ремеслу Джулии, а она разнесет по всей округе. — И Винченцо тут же ушел к соседке одалживать инструменты.
Так я и остался у них. Считалось, что я живу в проходной кладовке, служившей семье Орвьето в зимние холода уборной — Джулия там все вымыла, хотя старый запах от этого не улетучился; постелили какое-то тряпье, а суконное солдатское одеяло я принес с собой. Спал же я и занимался сапожничеством в примыкавшей к дворику оливковой рощице, грязной, с кучами мусора и отбросов, пропахшей нечистотами и гнилью. Там я соорудил себе из веток шалаш, он был неприметен, его трудно было обнаружить среди куч веток и мусора, знали о нем немногие. Если было дождливо или холодно, я переселялся в кладовку. Самое неприятное ощущение той поры было тупое, как непроходящая боль, чувство страха, боязнь, что тебя найдут и куда-нибудь вышлют, и еще постоянное сосущее ощущение голода — и без того худой, я потерял добрую треть веса. Небольшой запас консервов и концентратов, который я выменял у черного солдата, был съеден в первый же вечер, когда я, войдя в дом Орвьето, на радостях вывалил все свои припасы из мешка. У меня остались только две пачки ароматных американских сигарет; я хотел отдать их Джулии, чтобы та где-нибудь обменяла их на продукты, но как-то в дом нагрянул местный полицейский, единственный на всю округу, дальний родич Орвьето, выпроводил всех из дому и устроил мне допрос. Я знал о том, что он из рода Орвьето, и меня его вторжение не очень испугало, тем более, что он не увел меня на допрос к себе в каталажку, а говорил со мной здесь. Объяснять ему много не пришлось, он знал все то же, что и Винченцо, и я понял, что это работа брата Джеммы: парень, видимо, решил избавить полицейского от неожиданной встречи со мной и наверняка попросил его не трогать меня. Но все же полицейский пришел. Выслушал он меня без особого интереса, для порядка произвел обыск в кладовке, попросил развязать вещмешок и вытряхнуть содержимое. Его привлекли лишь две пачки сигарет.
— Сеньор курит? — спросил он.
— Нет.
— А откуда такая роскошь? Украл?
— Нет, выменял, чтоб потом променять на продукты.
— Верю. Если бы воровал или убил кого-нибудь, тебя бы разыскивали, у меня имеются приметы всех преступников. Ты ни на кого из них не похож. Ну, а сигареты я возьму себе, они мне нужнее, я курящий. Пришлю вам за них немного макарон.
Он сдержал свое слово, как-то вызвал к себе Джулию и дал ей два кулька изломанных, не первой свежести макарон. Джулия берегла их (о, моя Джулия!), варила их только для меня в те дни, когда в деревню налетали с обысками и мне приходилось отсиживаться в своем шалаше. Принесет их, бывало, горяченькие, в тряпочке, заботливо разворачивает ее и смотрит, как я ем.
— Может, надо было отдать детям? — спрашивал я.
— Дети уже поели.
— А ты?
— И я тоже. Мы в еде не переборчивы, а сеньор все есть не может, не привык. Кроме того, сеньор работает, за последние ваши сандалии я выменяла немного сыра и бобов. Завтра принесу.
О готовившейся большой облаве меня предупредил сам полицейский, — это был последний раз, когда он зашел к нам.
— Из дома уходи, все убери, чтобы и следа твоего тут не было.
Он походил по цементному полу единственной комнаты, которая называлась домом, с развешанной на гвоздях по стенам отрепавшейся одеждой и таким же тряпьем по углам, где спала ребятня, вздохнул и сказал мне с такой злобой, будто я был виноват в их бедности: