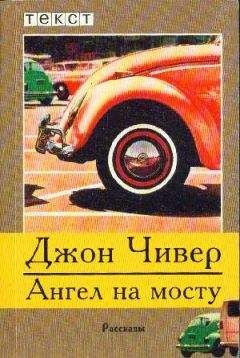Как-то вечером я сел в машину, поехал на станцию и поспел к прибытию поезда шесть тридцать две. Этим поездом я некогда возвращался домой после работы. Остановив свою машину позади длинного ряда машин, за рулем которых сидели большей частью жены-домохозяйки, я почувствовал необычайное волнение. Я никого не встречал, а окружающие меня женщины всего лишь навсего приехали за своими мужьями, возвращающимися после работы домой; но мне казалось, что все мы — и они, и я — ожидаем чего-то гораздо большего, более значительного. Декорации были установлены, мизансцена намечена: оба наши таксиста, Пит и Харри, стояли у своих машин, возле них терся неисправимый бродяга — эрдель, принадлежащий Брукстонам; мистер Уинтерс, дежурный по станции, разговаривал с почтмейстершей Луизой Балколм, которая жила через станцию от нас. Это все были статисты, так сказать, второстепенные персонажи, кумушки и носильщики, составляющие канву, по которой вышиваются основные события. Я следил за стрелкой моих наручных часов. Подошел поезд, и через минуту началось извержение и вся человеческая лава хлынула из дверей вокзала на площадь. О, как их много и как они торопятся домой! Как похожи они на матросов, возвращающихся из дальнего плавания! Я даже засмеялся от радости. Все они, долговязые и коротенькие, богатые и бедные, умные и глупые, мои друзья и мои недруги — все они ступали так бодро, выйдя из вокзального здания, у всех у них глаза так сияли, что я тотчас понял: я непременно и без промедления должен вновь стать частью этой толпы. Надо просто-напросто снова начать работать! Приняв такое решение, я ощутил прилив бодрости и великодушия, и, когда я вернулся домой, мне на минуту показалось, что сама Кора заразилась моим настроением. Впервые за долгий срок я услышал, что она говорит своим обычным голосом, теплым и полнозвучным, но, когда я пытался сказать ей что-то в ответ, она снова перешла на «музыкальный» тембр. «Я разговаривала с золотой рыбкой», сказала она. Так оно и было. Прелестная улыбка, которой она меня давно уже не удостаивала, была адресована аквариуму. Уж не отреклась ли она от мира с его городскими огнями и шумами, подумал я, ради этого стеклянного шара с его нелепым замком посредине? Я видел, что она смотрит в этот другой мир с нескрываемой тоской.
* * *
Утром я поехал в Нью-Йорк и позвонил знакомому, который всегда самым лестным образом отзывался о моей деятельности в «Динафлексе». Он попросил меня подойти к нему на работу часам к двенадцати, и я понял это как приглашение вместе позавтракать.
— Я хочу вернуться на работу, — сказал я, входя к нему в кабинет, — и рассчитываю на вашу помощь.
— Это не так просто, — сказал он, — не так просто, как вы думаете. Во-первых, вы не можете особенно рассчитывать на сочувствие. Все знают об исключительном великодушии, которое Пенамбра проявил по отношению к вам. Многие были бы рады оказаться на вашем месте. Я хочу сказать, что некоторая зависть здесь вполне естественна, у многих в самом деле есть основание вам завидовать. А люди не очень охотно помогают тем, кто находится в лучшем положении, чем они сами. Кроме того, Пенамбра, видимо, лично заинтересован в вашей отставке. Не знаю, отчего, но знаю, что это наверное так, и всякий, кто принялся бы хлопотать за вас, рисковал бы навлечь на себя неудовольствие «Мильтониума». И если уж на то пошло, вы ведь и в самом деле безобразно стары. Нашему президенту всего двадцать семь лет. А президенту самой для нас грозной из конкурирующих фирм — немногим больше тридцати. Почему вы не хотите спокойно наслаждаться жизнью? Почему не можете относиться ко всему проще? Почему бы вам не поездить по свету, не посмотреть разные страны?
В ответ я смиренно спросил, не найдет ли он для меня работу, разумеется более или менее ответственную, у себя в фирме, если я куплю у них акции, скажем, на пятьдесят тысяч долларов? Мой приятель широко улыбнулся. Казалось, все решилось очень просто.
— Я с удовольствием возьму ваши пятьдесят тысяч, — сказал он, — что же касается работы, боюсь…
В эту минуту вошла секретарша — напомнить, что он запаздывает на деловой ленч.
Я стоял на перекрестке, делая вид, будто жду, чтобы сменился свет в светофоре. На самом деле я ждал чего-то другого, сам не знаю чего. Мне хотелось выписать все свои обиды на доску и шагать по улицам с этой доской на спине. Я бы занес на нее коварство Пенамбры, меланхолию Коры, оскорбления, нанесенные мне прислугой и садовником, и жестокость, с какой меня вытолкнули из потока жизни только оттого, что нынче в ходу молодость и неопытность. Я бы повесил эту доску себе на спину и шагал бы с нею взад-вперед перед ступенями Публичной библиотеки от девяти до пяти каждый день, а желающим ознакомиться с ходом событий более детально раздавал бы брошюрки. И чтобы мела метель, дул ураганный ветер, гремел гром — все как следует!
Я зашел в ресторан в переулке, чтобы чего-нибудь выпить, а заодно и перекусить, и попал в одно из тех заведений, куда ходят холостяки читать вечерние газеты и есть рыбные блюда и где, несмотря на цветные абажуры и приглушенные звуки, царит атмосфера заговора и смуты. Похожий на типичного молодчика с Корсо ди Рома метрдотель ходил вперевалочку, постукивая каблуками своих итальянских туфель и сутулясь, словно фрак жал ему в плечах. Он сказал что-то резкое буфетчику, после чего буфетчик сказал официанту сдавленным голосом: «Я его убью! Я его когда-нибудь убью!» «Ты и я, мы вместе, — отвечал вполголоса официант, — когда-нибудь мы с тобой его убьем!» К ним присоединилась девушка из гардероба, и все трое принялись шушукаться. Ей, оказывается, не терпелось убить самого директора ресторана. Метрдотель направился к ним, и заговорщики рассыпались. Но атмосфера по-прежнему оставалась наэлектризованной. Я выпил свой коктейль, заказал салат и вдруг из-за перегородки, отделявшей меня от соседнего столика, услышал чей-то страстный монолог. Я невольно прислушался.
— Еду я в Миннеаполис, — говорил голос. — Мне нужно было в Миннеаполис по делу. Только вхожу в свой номер и — пожалуйте к телефону! Ей, видите ли, необходимо сообщить мне, что горячая вода не идет. Я тут в Миннеаполисе, а она — на Лонг-Айленде и звонит мне по междугородному, чтобы сообщить о горячей воде. Спрашиваю, почему она не вызовет водопроводчика, а она — в слезы. Плачет по междугородному минут пятнадцать — и все только оттого, что я предложил ей вызвать слесаря! Ну, ладно. Вспоминаю, что в Миннеаполисе есть хорошая ювелирная лавка, иду туда, покупаю ей сережки. Сапфир. Восемьсот долларов. Эти штучки мне не по средствам, но не делать ей подарков — себе дороже. То есть эти самые восемьсот долларов я могу выручить в какие-нибудь десять минут, но, как мне сообщил юрист по налогам, я получаю на руки не больше трети того, что выручаю, так что пара сережек в восемьсот долларов обходится мне примерно в две тысячи. Ну, так вот, покупаю я эти самые сережки, дарю ей их, и мы отправляемся к Барнстеблам. Приходим от них домой, и что же? Она потеряла одну сережку! Где обронила, не помнит. Да ей и наплевать. Не хочет даже позвонить Барнстеблам, спросить, не нашел ли ее кто-нибудь на ковре. Не хочет, видите ли, их беспокоить. Тогда я говорю, что это все равно, что топить печку деньгами. Она — в слезы, говорит, что сапфир, мол, холодный камень и выражает мой внутренний холод по отношению к ней. Говорит, что в этом моем подарке не заключалось ни грана любви, что это холодный подарок. Ведь я просто взял себе и пошел в лавку и купил их, говорит она. Я не вложил в них ни чувства, ни мысли. Что же, говорю, ты хочешь, чтобы я сам тебе сделал сережки, что ли? Может, мне записаться в вечернюю школу и поучиться, как делать эти проклятые серебряные браслеты? И ковать их самому, что ли? Чтобы каждый удар молоточком был как поцелуй любви? Может быть, она этого хочет, черт возьми? И я, значит, опять спи в гостевой…
Я продолжал жевать и слушать. Я все ждал, когда же прозвучит голос его собеседника, ждал какой-нибудь его реплики — сочувствия или согласия, но так и не дождался. Я даже подумал, не разговаривает ли незнакомец сам с собой, и заглянул было сбоку за перегородку. Но автор монолога забился в угол и оставался невидимым.
— У нее ведь есть свои деньги, — продолжал он. — Я плачу налог на ее капитал, а она транжирит себе денежки на тряпки. Платьев и туфель у нее завались, три меховых пальто, четыре парика. Че-ты-ре! А попробуй я купить себе костюм, и она заявляет, что я мот. А ведь приходится время от времени что-то покупать и себе. Не могу же я ходить на работу ободранным, как какой-нибудь бродяга! А купишь что-нибудь — значит, мот. В прошлом году я купил себе зонт, ну просто чтобы не промокать в дождь. Мотовство. В позапрошлом году — легкий костюм. Мотовство. Я не могу себе даже пластинку купить для проигрывателя, потому что знаю, что меня запилят за расточительство. С моим жалованьем — нет, вы только подумайте, с таким жалованьем, как у меня! — мы не можем себе позволить бекона на завтрак. Только по воскресеньям! Бекон, видите ли, неэкономен. А посмотрели бы вы наши счета за телефон! У нее есть подружка, с которой она жила в общежитии, еще когда училась в колледже. Они, должно быть, были очень близки. Она живет сейчас в Риме. Мне она не по душе. Она была замужем за очень славным малым, большим моим приятелем. Ну, так она его совсем допекла. Разделалась с ним вчистую. Он раздавлен совершенно. Ну, вот, теперь она поселилась в Риме, и Вера постоянно ей туда названивает. Прошлый месяц мне пришлось уплатить восемьсот долларов за одни ее разговоры с Римом. Я ей говорю: «Вера, если тебе так уж необходимо болтать со своей подружкой, почему ты не сядешь на самолет и не слетаешь к ней? Это было бы много дешевле», говорю. А она: «Ни в какой — говорит — Рим я не полечу. Я ненавижу Рим. Там шумно и грязно».