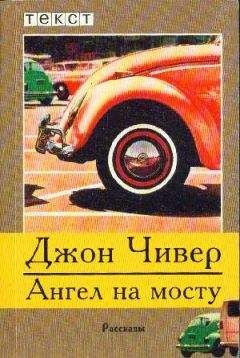Я продолжал жевать и слушать. Я все ждал, когда же прозвучит голос его собеседника, ждал какой-нибудь его реплики — сочувствия или согласия, но так и не дождался. Я даже подумал, не разговаривает ли незнакомец сам с собой, и заглянул было сбоку за перегородку. Но автор монолога забился в угол и оставался невидимым.
— У нее ведь есть свои деньги, — продолжал он. — Я плачу налог на ее капитал, а она транжирит себе денежки на тряпки. Платьев и туфель у нее завались, три меховых пальто, четыре парика. Че-ты-ре! А попробуй я купить себе костюм, и она заявляет, что я мот. А ведь приходится время от времени что-то покупать и себе. Не могу же я ходить на работу ободранным, как какой-нибудь бродяга! А купишь что-нибудь — значит, мот. В прошлом году я купил себе зонт, ну просто чтобы не промокать в дождь. Мотовство. В позапрошлом году — легкий костюм. Мотовство. Я не могу себе даже пластинку купить для проигрывателя, потому что знаю, что меня запилят за расточительство. С моим жалованьем — нет, вы только подумайте, с таким жалованьем, как у меня! — мы не можем себе позволить бекона на завтрак. Только по воскресеньям! Бекон, видите ли, неэкономен. А посмотрели бы вы наши счета за телефон! У нее есть подружка, с которой она жила в общежитии, еще когда училась в колледже. Они, должно быть, были очень близки. Она живет сейчас в Риме. Мне она не по душе. Она была замужем за очень славным малым, большим моим приятелем. Ну, так она его совсем допекла. Разделалась с ним вчистую. Он раздавлен совершенно. Ну, вот, теперь она поселилась в Риме, и Вера постоянно ей туда названивает. Прошлый месяц мне пришлось уплатить восемьсот долларов за одни ее разговоры с Римом. Я ей говорю: «Вера, если тебе так уж необходимо болтать со своей подружкой, почему ты не сядешь на самолет и не слетаешь к ней? Это было бы много дешевле», говорю. А она: «Ни в какой — говорит — Рим я не полечу. Я ненавижу Рим. Там шумно и грязно».
— Но вы знаете, — продолжал незнакомец, — когда я пересматриваю свое прошлое, да и ее прошлое тоже, я вижу, что у этой истории глубокие корни. Моя бабушка была женщина чрезвычайно эмансипированная, горой стояла за права женщин. Моя мать, когда ей было тридцать два года, поступила на юридический факультет и успешно его окончила. Практиковать она никогда не практиковала. Она говорила, что пошла учиться за тем лишь, чтобы иметь общие интересы с папой. А на самом деле она убила, ну буквально убила остатки нежности между ними. Она почти никогда не бывала дома, а когда и бывала, то постоянно готовилась к экзаменам. Я только и слышал: «Тсс! Мама изучает право…» Отец мой был очень одинок, впрочем, кругом столько одиноких мужчин! Никто, конечно, не признается. Да и вообще кто скажет правду? Встречаешь на улице старого приятеля. Вид у него ужасный. Смотреть страшно. Лицо серое, волосы повылезли, весь дергается. Ну, и понятное дело, говоришь ему: «Чарли, дружище, как ты великолепно выглядишь! Молодец!» А он трясется и отвечает: «Никогда-то я так себя хорошо не чувствовал! Никогда!» Ну и расходимся всяк в свою сторону.
Конечно, я понимаю, что Вере нелегко, ну да что я могу сделать? Ей-богу, мне иной раз кажется, что она готова меня укокошить: бахнет молотком по башке, пока я сплю, и вся недолга. Не потому, что это именно я, а просто за то, что я мужчина. Порой мне кажется, что современная женщина самое несчастное существо во всей истории человечества. Они, понимаете, очутились в открытом море, посреди океана. Например, я как-то застиг Веру в буфетной с Питом Барнстеблом. В тот самый вечер, когда я вернулся из Миннеаполиса, словом, когда она потеряла сережку. Ну, вернулись мы домой я еще не знал, что она потеряла сережку, — спрашиваю: «Что это значит? - говорю, — как это понять? Что это ты с Питом Барнстеблом возишься?» А она мне отвечает (такая, видите ли, эмансипированная!): «Неужели, — говорит, ты думаешь, что женщина может ограничиться вниманием одного мужчины?» Тогда я говорю: «Ну, а со мной как? Это распространяется и на меня?» То есть, если ей можно обжиматься с Питом Барнстеблом, то не следует ли из этого, что я могу покатать Милдред Ренни в своей машине? Тогда она сказала, что я все ее слова как-то там грязно толкую. У тебя, говорит, такое грязное воображение, что я с тобой не могу разговаривать. Тут-то я и заметил пропажу сережки, и после этого у нас произошел этот самый разговор насчет холодных сапфиров и так далее.
Голос его упал до шепота, и одновременно сидевшие за другой перегородкой женщины шумно начали поносить отсутствующую приятельницу. Мне очень хотелось посмотреть, какое у него лицо, я крикнул, чтобы мне принесли счет, но, когда я вышел из-за стола, этого человека уже не было, и теперь мне так никогда и не удастся узнать, как он выглядел.
* * *
Приехав к себе, я поставил машину в гараж и вошел в дом через кухню. Кора сидела за столом, склонившись над тарелкой с котлетами. В руке она держала баночку со смертельной отравой, применяемой против садовых вредителей. Я близорук и не могу поклясться, что это именно так и было, но мне показалось, что она посыпает этим порошком котлеты. При моем появлении она вздрогнула, но к тому времени, как я надел очки, успела поставить банку на стол. Я уже однажды попал впросак по вине своей близорукости и теперь боялся повторить свою ошибку; и однако одно было бесспорно: порошок против садовых вредителей стоял на столе, рядом с едой, совсем не там, где ему надлежало быть. В порошке этом содержался смертельный яд.
— Что ты делаешь? — спросил я.
— А как тебе кажется — что я делаю?
Голос ее по-прежнему звучал «в верхнем регистре».
— Я бы сказал, что ты посыпаешь котлеты порошком от садовых вредителей.
— Я знаю, что ты не очень высокого мнения о моих умственных способностях, — сказала Кора, — но, право же, в полный идиотизм я еще не впала.
— Да, но что ты делала с этим порошком?
— Как что? Посыпала розы.
Я был разбит наголову. Разбит и напуган. Я понимал, что мясо, густо посыпанное этим порошком, представляло смертельную опасность и что, поев этих котлет, я мог умереть. Но что было удивительнее всего — это то, что после двадцати лет супружеской жизни я, оказывается, не знал Кору даже настолько, чтобы понять, задумала ли она меня убить или нет. Да, я был готов довериться случайному человеку — посыльному из магазина, прислуге кому угодно, только не Коре! Ветры, овевавшие наш двадцатилетний союз, не разогнали нависшего над ним облака порохового дыма. Я налил себе мартини и с бокалом в руке прошел в гостиную. Я легко мог уйти от угрожавшей мне опасности. Я мог бы, например, пойти ужинать в клуб. Теперь, когда я перебираю в памяти прошедшее, мне начинает казаться, что удержали меня от этого шага голубые стены нашей гостиной. Это была приятная комната, из ее высоких окон открывался вид на газон, на купу деревьев и небо. Строгий порядок, здесь царствовавший, казалось, и самого меня обязывал к какому-то упорядоченному поведению, и, бойкотируя домашний стол, я как бы бросал вызов общепринятым порядкам. Если бы я отправился ужинать в клуб, я бы тем самым поддался своей подозрительности и убил бы в себе надежду, а я во что бы то ни стало хотел сохранить свой оптимизм. Голубые стены казались мне звеном в общей цепи бытия, которую бы я грубо оборвал, если бы позволил себе поехать в клуб и в полном одиночестве сжевать у стойки бара бутерброд с бифштексом.
Я съел одну котлетку. Вкус ее показался мне странен, но я уже не различал, где кончается объективная реальность, а где начинается моя мнительность. Острое расстройство пищеварения заставило меня ночью встать и провести целый час в уборной. Кора как будто спала, когда я встал; впрочем, когда я вернулся, я заметил, что она лежит с открытыми глазами. Я был в большой тревоге и наутро приготовил себе завтрак сам. Ленч готовила прислуга, и я не боялся, что она меня отравит. Потом я пошел в сад читать своего Генри Джеймса, но по мере того как близилось время ужина, я чувствовал, как во мне нарастает тревога. Я пошел в буфетную, чтобы устроить себе коктейль. Кора уже приготовила ужин и находилась в другом конце дома. У нас на кухне есть чуланчик, в котором хранятся метлы и грабли. Я вошел туда и закрылся. Через некоторое время раздались Корины шаги. Она возвратилась на кухню. Порошок от вредителей хранится у нас в шкафчике на кухне. Я услышал, как она открывает дверцу этого шкафа. Затем она вышла в сад, и по звукам, которые доносились оттуда, я понял, что она посыпает розы. Она вернулась на кухню, а я не слышал, чтобы она поставила порошок на место. Поле моего зрения было ограничено замочной скважиной. Она стояла спиной ко мне, и я не мог судить, чем она посыпает мясо — солью, перцем или смертельным ядом. Она снова вышла в сад, а я покинул чулан и проскользнул в гостиную и, когда она позвала ужинать, вошел на кухню оттуда.
— Фу, как душно! — сказал я, садясь за стол.
— Да, в особенности в чулане, — сказала Кора.