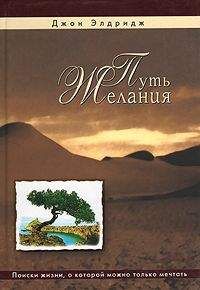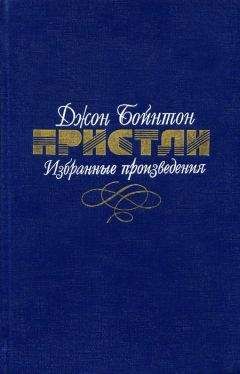голос и становлюсь настолько неузнаваемым, что даже обитатели этого
дома, встречая меня на лестнице, не уверены, что перед ними тот самый
человек, которого они видели накануне. Внешность свою я меняю каждый
день и каждый раз ночую на новой квартире. Не бойся за меня, но
приходи каждый вечер к назначенному месту, к закрывающей канавку
двери, потому что каждый вечер у меня будет для тебя что-нибудь
новое. Помни, что силы мои неиссякаемы, жажда неутолима, что весь жар
сердца моего и души отданы одному делу. Клянусь тебе еще раз душой и
телом, я ни за что не уеду отсюда, до тех пор пока ты не будешь на
свободе, _положись на меня, Алонсо_".
Я избавлю вас, сэр, от подробного описания моих чувств, и каких чувств! Господи, прости меня за то благоговение, с каким я покрывал эти строки поцелуями, с каким я готов был припасть к писавшей их руке, - за благоговение, которого достойно только изображение божие. Но ведь он был так юн, побуждения его так благородны, в необузданном сердце его было столько тепла, и он готов был пожертвовать всем, что могли принести ему его высокое положение и молодость с ее утехами, - вместо этого он пускался на унизительные переодевания, подвергая себя неимоверным лишениям, претерпевал все самое тягостное для юноши избалованного и гордого (а я знал, что он избалован и горд), скрывая свое возмущение всем этим под личиною напускной веселости, рядом с которой было подлинное великодушие, и все это ради меня! О, как меня все это трогало!
* * * * * *
На следующий день вечером я снова был возле двери. Никакой записки не появилось, а я просидел, дожидаясь ее, до тех пор, пока совершенно стемнело, и я уже вряд ли бы мог различить ее, будь она в эти часы под дверью. Следующий за этим вечер оказался более счастливым: я получил новое известие от брата. Тот же самый измененный голос прошептал: "Алонсо", и имя это прозвучало для меня сладчайшей музыкой. В записке содержалось всего несколько строк (мне не стоило никакого труда проглотить ее тут же после того, как я ее прочитал). Вот они:
"Наконец-то мне удалось найти еврея, который даст мне взаймы
большую сумму. Он притворяется, что не знает меня, хотя я уверен, что
это не так. Ростовщические проценты, которые он берет, и
противозаконность всех его действий являются для меня полной
гарантией безопасности. Еще несколько дней, и в моих руках будут
средства освободить тебя; мне даже посчастливилось найти способ, как
ими воспользоваться. Есть один негодяй...".
На этом записка кончалась. Восстановительные работы возбудили в монастыре столько любопытства (которое, кстати сказать, возбуждается в этих стенах очень легко), что последующие четыре вечера я не решался оставаться возле двери, боясь, что могу этим вызвать подозрение. Все это время я страдал, и не только от того, что надежды мои не сбывались, но и от страха, что это неожиданно для меня начавшееся общение с братом может теперь навсегда прерваться; я ведь знал, что через несколько дней работы будут закончены. Я поделился своими опасениями с братом и воспользовался для этого тем же способом, каким сам получал от него записки. Потом я стал упрекать себя в том, что напрасно его тороплю. Я подумал о том, как трудно ему скрываться в незнакомом месте, иметь дело с ростовщиками, подкупать монастырских слуг. Я подумал обо всем, что он предпринял, и о тех опасностях, которым он себя подвергает. А вдруг все его усилия окажутся напрасными? Ни за что на свете, даже если бы меня сделали властелином всего мира, не хотел бы я еще раз пережить все муки, которые мне пришлось испытать в течение этих четырех дней. Приведу вам только один пример, из которого вы узнаете, что я пережил, услыхав, как рабочие говорят: "Ну вот, скоро и конец". Я обычно вставал за час до начала утрени, передвигал камни, опрокидывал бочку с известью, для того чтобы она смешалась с глиной и стала совершенно негодной к употреблению, одним словом, с таким искусством _распускал ткань Пенелопы_ {6}, что рабочие были убеждены, что не кто иной, как сам дьявол мешает им довести дело до конца, и последнее время всякий раз приносили с собой святую воду, которой с превеликим ханжеством и весьма обильно все окропляли.
На пятый вечер я подобрал под дверью записку, где говорилось:
"Все улажено - я договорился с евреем так, как у них принято. Он
притворяется, что ему ничего не известно о том, кто я такой и как я
_буду_ богат. В действительности он все это отлично знает и не
посмеет предать меня уже хотя бы потому, что захочет сберечь
собственную шкуру. Возможность сразу же выдать его Инквизиции
лучшая гарантия того, что он исполнит свое обещание, лучшая и, надо
сказать, единственная. У вас в монастыре есть один негодяй. Это
_отцеубийца_, который решил искать убежище в стенах обители и
согласился принять монашество для того, чтобы избежать возмездия за
свои грехи, по крайней мере в земной жизни. Мне рассказывали, что это
чудовище перерезало горло отцу в то время, как тот сидел за ужином, с
единственной целью - добыть небольшую сумму, которую он проиграл в
карты. Товарищ его, который тоже проигрался, дал обет, в случае если
он выиграет, поставить две свечи перед статуей Пресвятой девы,
находившейся неподалеку от того злополучного дома, где шла игра. Но
он проиграл и был так разъярен постигшей его неудачей, что, проходя
мимо статуи, ударил ее кулаком и на нее плюнул. Поступок его был
возмутителен, но можно ли его сравнивать с преступлением того, кто
сейчас находится среди вас? Этот надругался над святыней {7}, а тот
убил отца; и, однако, первый умер от самых ужасных пыток, а второй
после тщетных стараний скрыться от правосудия _нашел убежище_ в
святой обители и теперь вот сделался послушником у вас в монастыре.
На преступные страсти этого негодяя я и возлагаю все свои надежды.
Насколько я понимаю, душою его владеют жадность, чувственность и
безрассудство. Стоит только обещать ему денег, и он не остановится ни
перед чем; ради денег он готов помочь тебе освободиться, ради денег
он может задушить тебя в твоей келье. Он завидует Иуде, который
предал Спасителя рода человеческого за тридцать сребреников. _Его_
душу можно купить и за полцены. Вот с помощью какого человека мне
приходится осуществлять мои планы, - это мерзко, но иного выхода нет.
Мне довелось читать, что самые действенные лекарства добываются из
ядовитых растений и ядовитых змей. Я выжму сок, а потом выброшу
оболочку.
Алонсо, не страшись этих слов. Не дай привычкам твоим одержать
верх над мужеством. Положись на меня в деле твоего освобождения и
позволь мне употребить для этого те средства, которые я вынужден
сейчас избрать. И можешь не сомневаться, рука, пишущая тебе эти
строки, скоро пожмет твою - уже на свободе".
Я вновь и вновь перечитывал эту записку, оставшись один у себя в келье, после того как уже улеглось то волнение, с которым я ожидал ее, прятал и читал _в первый раз_, и сомнения и страхи сгустились надо мной, как сумеречные тучи. По мере того как Хуан становился увереннее. моя уверенность, напротив, меня покидала. Существовал разительный контраст между бесстрашием, независимостью и предприимчивостью, которые он мог себе позволить, и тем робким одиночеством и страхом перед опасностями, которые достались на мою долю. Несмотря на то что надежда на спасение, которое он должен был обеспечить мне мужеством своим и находчивостью, все еще продолжала пламенеть в глубинах моего сердца как некий неугасимый светильник, я, однако, не решался доверить этому самоотверженному юноше свою судьбу: при том, что он был так предан мне, он был неустойчив; убежав из родительского дворца, он жил в Мадриде, скрываясь и выдавая себя за другого, а в сообщники себе избрал негодяя, человека, который всем внушал отвращение. На кого же и на что возлагал я теперь надежды? На неистовые усилия существа, хоть и любящего меня, но взбалмошного, безрассудного и лишенного опоры, вступившего в сговор с отродьем дьявола, способным забрать деньги, а потом наслаждаться их звоном, издеваясь над нашим отчаянием и обреченностью, с тем, кто забросит ключ от нашей свободы в такую пропасть, куда не проникнет ни один луч и откуда никакою силой его нельзя будет извлечь.
Подавленный всеми этими соображениями, я предавался раздумью, молился, плакал, душу мою раздирали сомнения. Кончилось тем, что я написал несколько строк Хуану, в которых откровенно высказал ему все свои сомнения и страхи. Прежде всего я усомнился в самой возможности этого побега.
"Можно ли себе представить, чтобы человек, за которым следит
весь Мадрид, который на примете у всей Испании, ускользнул от
иезуитов. Подумай, дорогой мой Хуан, ведь против меня сейчас вся