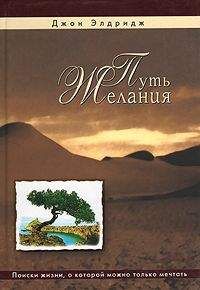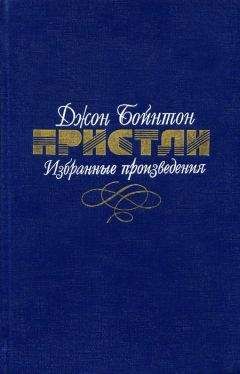иезуитов. Подумай, дорогой мой Хуан, ведь против меня сейчас вся
община, все духовенство, вся нация. И вообще-то монаху невозможно
убежать, но самое невозможное - это найти потом надежное убежище.
Ведь по всей Испании, во всех монастырях колокола зазвонят сами,
призывая разыскивать беглеца. Военные, гражданские и духовные власти
- все будут подняты на ноги. Загнанному, истерзанному, доведенному до
отчаяния, мне придется кидаться из одного места в другое, и я нигде
не найду себе покоя. Ярость церковных властей, жестокая и
неотвратимая кара закона, отвращение и ненависть общества,
подозрительность со стороны низшего сословия, среди которого я должен
скрываться, стараясь обмануть их проницательность, проклиная ее в
душе; подумай, с чем только мне не придется столкнуться, подумай, что
на меня надвигается огненный крест Инквизиции, а следом за ним - вся
эта свора, и все кричат, вопят, улюлюкают, завидев добычу!
О Хуан, если бы ты только знал, какие ужасы мне пришлось
испытать! Мне легче было бы умереть, нежели переживать их снова, будь
то даже во имя свободы! Свободы! Великий боже! На какую же свободу
может рассчитывать в Испании монах? Нет ни одной лачуги, где я мог бы
спокойно провести ночь, ни одной пещеры, куда эхо не доносило бы
весть о том, что я - отступник. Доведись мне даже скрыться во чреве
земли, все равно меня непременно бы разыскали, извлекли бы из ее
недр. Милый Хуан, когда я думаю о всемогуществе церкви в Испании, то
не лучше ли выразить мою мысль словами, с которыми мы обращаемся к
Всемогущему: "Взойду ли на небо. Ты там; сойду ли в преисподнюю, и
там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря: и там..."
{8}. Представь себе, что освобождение мое свершилось, что весь
монастырь погрузился в глубокое оцепенение и недремлющее око
Инквизиции не увидело во мне отступника, куда же мне после этого
деться? Как я буду добывать себе средства пропитания? Юные годы свои
я провел в праздности, окруженный роскошью, и ничему не научился.
Сочетание глубочайшей апатии со смертельной ненавистью к монашеской
жизни делают меня непригодным для общества. Представь себе, что двери
всех монастырей в Испании распахнулись бы, что стали бы делать их
обитатели? Ничем не могли бы они ни украсить, ни возвысить свою
страну. Что я стал бы делать, чтобы обеспечить себя самым
необходимым? Что мог бы я делать такое, что бы не выдало меня с
головой? Я буду загнанным, жалким беглецом, заклейменным Каином {9}.
Увы, погибая в огне, я, быть может, еще увижу, что Авель не _моя_
жертва, а жертва Инквизиции".
Едва только я написал эти строки, повинуясь порыву, объяснить который мог бы кто угодно, кроме меня самого, я разорвал все на мелкие клочки и старательно сжег их на огне находившегося у меня в келье светильника. Потом я снова пошел к заветной двери, с которой были связаны все мои надежды. Проходя по коридору, я столкнулся с каким-то отвратительным на вид человеком. Я подался от него в сторону, ибо уже решил, что не должен общаться ни с кем, кроме тех случаев, когда к этому вынуждает монастырская дисциплина. Проходя мимо меня, он коснулся моей рясы и многозначительно на меня посмотрел. Я сразу же понял, что это и есть то лицо, о котором упоминалось в письме Хуана. Спустя несколько минут, уже выйдя в сад, я обнаружил там записку, подтвердившую мои предположения. Вот что она гласила:
"Я раздобыл денег и нашел человека. Это сущий дьявол, но
решимость и непоколебимость его не подлежат сомнению. Выйди завтра
вечером на прогулку - к тебе кто-то подойдет и коснется края твоей
рясы, обхвати запястье его левой руки - это будет знаком. Если
увидишь, что он сомневается, шепни ему: "Хуан", и он ответит тебе
"Алонсо". Это и есть тот самый человек, обсуди все с ним. Он будет
сообщать тебе о каждом шаге, который я предприму".
После того как я прочел это письмо, я почувствовал себя неким механизмом, который определенным образом заведен, причем так, что не может не выполнить того, что ему предназначено. Сила и стремительность всех действий Хуана, казалось, без всякого моего участия передалась и мне, а так как думать мне было некогда, то некогда было и выбирать.
Он напоминал собою часы, стрелки которых приведены в движение; я отбивал определенное число ударов, ибо был вынужден это делать. Когда мы так вот ощущаем на себе действие чьей-то силы, когда кто-то другой начинает думать, чувствовать и поступать за нас, мы с большой охотой перекладываем на него не только физическую, но и моральную ответственность за наши поступки. Охваченные себялюбивым малодушием и упоенные собственным покоем, мы говорим: "Пусть оно так и будет - вы все за меня решили", не думая о том, что на Страшном суде нас некому будет взять на поруки.
Итак, на следующий вечер я вышел погулять. Обличье мое и все движения были спокойны, можно было подумать, что я погружен в глубокое раздумье. Да так оно в сущности и было, только мысли мои устремлялись вовсе не в том направлении, какое им приписывали люди, которые меня окружали. По дороге кто-то коснулся моей рясы. Я встрепенулся, но к моему великому изумлению один из монахов попросил у меня прощения за то, что нечаянно задел меня рукавом. Минуты две спустя рясы моей коснулся другой монах. Прикосновение это было совсем непохоже на первое, в нем можно было ощутить уверенность, которая говорила о том, что тебя понимают и хотят тебе что-то передать. Этот человек не боялся быть узнанным, и ему не надо было ни в чем извиняться. Как же это случается в жизни, что преступление захватывает нас, ничего не страшась, тогда как прикосновение совести, даже к самому краю одежды, повергает нас в дрожь? Пародируя известную итальянскую пословицу {10}, можно сказать, что в основе преступления лежит мужское начало, а невинности женское. Дрожащей рукой я схватил его за запястье и, не переводя дыхания, прошептал:
- Хуан.
- Алонсо, - ответил он и стремительно пошел вперед.
В остающиеся мгновения я мог задуматься над превратностями своей судьбы, которая столь неожиданно оказалась в руках двух существ; одно из них высотой своих чувств могло оказать честь всему человеческому роду, в то время как другое преступлениями своими его позорило. Подобно гробу Магомета, я повис между небом и землей {11}. Я почувствовал неописуемое отвращение при мысли, что мне придется иметь дело с чудовищем, пытающимся замести следы совершенного им отцеубийства и прикрыть неизгладимые пятна крови покровом монашества. Не мог я преодолеть и ужаса, в который повергала меня страстность и стремительность Хуана; в конце концов я почувствовал, что попал под власть того, чего боялся больше всего на свете, и мне приходится подчиниться этой власти для того, чтобы обрести свободу.
На следующий вечер я снова вышел в сад. Не могу сказать, что походка моя была такой же ровной, несомненно только, что я старался изо всех сил отмеривать свои шаги. Снова та же рука коснулась моей рясы и тот же голос прошептал "Хуан". Сомневаться долее я уже не мог.
- Я в вашем распоряжении, - сказал я, проходя мимо.
- Нет, это я - в вашем, - ответил мне неприятный хриплый голос.
- В таком случае мне все понятно, - пробормотал я, - мы принадлежим друг другу.
- Да. Не будем больше говорить здесь, у нас будет для этого удобный случай. Завтра канун троицы; во всенощном бдении участвует вся братия; каждый час все будут по двое подходить к алтарю и молиться там в течение часа; потом следом за ними явятся двое других и так будет продолжаться всю ночь. Община питает к вам такое отвращение, что ни один из братьев не согласился идти в паре с вами, а ваш черед наступает между двумя и тремя. Поэтому вы окажетесь один, и в эти часы я подойду к вам: никто не помешает нам поговорить с глазу на глаз и никто нас ни в чем не заподозрит.
С этими словами он покинул меня. На следующую ночь, в канун троицы, монахи стали подходить по двое к алтарю. В два часа настал мой черед. В келью ко мне постучали, и я один спустился в церковь.
Глава VIII
Когда во храм к плечу плечо
Пройдете парами меж плит вы,
Пусть вас ничто не отвлечет.
Монахи, ночью от молитвы.
Колмен {1}
Я отнюдь не суеверен, но стоило мне войти в церковь, как я ощутил невыразимый холод в душе и в теле. Я подошел к алтарю и попытался стать на колени - невидимая рука оттолкнула меня. Казалось, некий голос обращается ко мне из глубин алтаря и вопрошает, зачем я туда явился. Мне подумалось тогда, что те, что только что ушли оттуда, были погружены в молитву, что те, что последуют за мной, придут туда тоже с благоговейным чувством, в то время как я пришел в церковь с дурными целями, собираясь учинить обман, и хочу употребить часы, отведенные для богослужения, на то, чтобы придумать, как от него избавиться. Я почувствовал себя обманщиком, который хочет воспользоваться святостью этого места для осуществления своей недостойной цели. Мне сделалось страшно - и за все задуманное и за самого себя. Наконец я опустился на колени, но молиться все равно не посмел. Ступени алтаря показались мне в эту ночь особенно холодными, я весь дрожал и вынужден был вслушиваться в окружавшую меня тишину. Увы! Как можем мы ожидать успеха в деле, если не смеем открыть замысел наш перед господом? Молитва, сэр, когда мы проникаемся ею, не только делает нас самих красноречивыми, но как бы сообщает еще некое подобие красноречия всему, что нас окружает. В прежнее время, когда я открывал господу душу, у меня было такое чувство, что все светильники горят ярче, а на лицах святых проступает улыбка, ночная тишина наполнялась тогда формами и голосами, и каждое дуновение ветерка, проникавшее в окно, походило на звуки арф, на которых играют тысячи ангелов. Теперь все было приглушено, светильники, статуи святых, алтарь и купол храма - все взирало на меня в молчании. Казалось, что со всех сторон меня окружают свидетели, которые без слов, одним своим присутствием, способны меня осудить. Я не смел поднять глаз, не смел говорить, не смел молиться, чтобы не обнаружить этим мысли, на которую я не смог бы испросить себе благословения; а так вот оберегать тайну, которая все равно известна богу, дело напрасное и к тому же недостойное христианина.