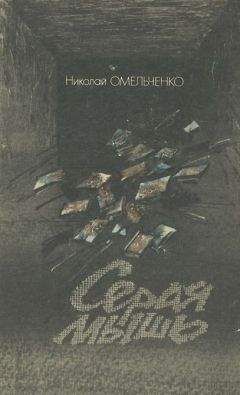— На что угодно — пожалуйста, а на эту детскую авантюру не дам и цента.
Комнату для Джулии я снял на Санта-Клер, в итальянском районе, куда сразу же и отвез ее из аэропорта. Комнатушка была такой же крохотной, как и моя, но с удобствами. Вечером того же дня я повел Джулию в итальянский клуб, представил ее знакомым итальянцам, которые обещали ей свое покровительство. Каждый вечер Джулия звонила мне; едва я приходил с работы, раздавался звонок и она спрашивала:
— Неужели у тебя не найдется свободного времени — хотя бы полчаса, чтобы увидеть меня? Я у тебя так ни разу и не была.
Я ссылался на занятость, но в следующий вечер она звонила снова:
— А ведь мы тебя в Италии принимали лучше, — говорила она с обидой в голосе.
— Тебе что — скучно с итальянцами?
— Я приехала не к ним, а к тебе.
Потом она совсем уж откровенно призналась:
— Ну, что я напишу родителям? Они ведь ждут ответа. Родители отпустили меня только потому, что надеялись на тебя, ты же когда-то обещал маме.
В ее голосе звучали такая надежда и отчаяние, что мне до боли стало жалко Джулию; вот тогда-то я и привел ее к себе, хотел поговорить с ней о том, что она еще очень молода, что ей надо пожить в Торонто, пообвыкнуться, а жених непременно найдется, такая добрая, красивая и разумная девушка в старых девах не засидится. Домой к себе я ее пригласил с единой целью — чтобы она увидела, что я по-прежнему беден, кроме кровати, тумбочки и стула, у меня ничего нет, даже платяного шкафа — единственный выходной костюм и старое, перелицованное пальто висели на стене под целлофаном. Но разве можно было эту девушку, познавшую нищету, смутить моей бедностью? Позже она сказала:
— Я ехала не к шкафу, а к тебе, — и, раздеваясь, вешая на спинку стула свое единственное платьице и штопаную рубашонку, добавила: — Пока что весь наш с тобой гардероб свободно помещается на одном стуле, а когда что-нибудь поприбавится, то найдутся деньги и на шкаф.
В тот первый вечер, когда она пришла ко мне, разговора, на который я рассчитывал, не получилось, — случилось совсем другое, то, за чем приехала она; но я ни о чем не жалею.
Несмотря на все свои скитания, я при малейшей возможности рисовал — кистью, карандашом, щепкой на песке; до поступления на фабрику изредка даже подрабатывал тем, что оформлял витрины мелких лавочников то в итальянском, то в китайском кварталах и брал за работу гораздо меньше, чем местные художники, за что однажды был побит, у меня отобрали кисти, поломали их и предупредили, что если я еще раз появлюсь в том квартале, то останусь без ног. Однако первое самое удачное, что я написал, — это был портрет Джулии. Рисовать ее было легко: тонкое лицо, нос с горбинкой, большие иконописные глаза, короткие гладкие волосы, худенькие острые плечи, рельефные ключицы, точеная, будто изваянная художником шея. Писать Джулию для меня было одно удовольствие, потом уже никогда в жизни я с таким наслаждением не писал ни одного портрета, и сделал его за какие-то два-три вечера. Ей портрет очень понравился. Она спросила у меня:
— Ты его нарисовал для себя?
— Почему для себя? Прежде всего — для тебя.
— И даришь его мне?
— Конечно!
— И я могу делать с ним все, что угодно?
— Это твое право.
На следующий день портрет исчез.
— Он на выставке, — сказала Джулия.
— На какой еще выставке?
— На выставке местных итальянских художников. Она на днях открылась в итальянском клубе. Портрет очень понравился, когда его повесили на стену, все сбежались смотреть.
— Не следовало этого делать. Вдруг его захотят продать, — мягко пожурил я Джулию.
— Это же будет прекрасно! Я для того и понесла его на выставку, так мне посоветовал один знакомый итальянец.
— Почему же ты у меня разрешения не спросила? Я же автор.
— Но ты сказал, что портрет мой и я могу делать с ним все, что захочу.
Джулия, конечно, хотела только добра, и спорить с ней было трудно.
А еще через день Джулия принесла мне пятьсот долларов. Она закричала на весь дом, радостная и сияющая:
— Меня купил какой-то богатый американец! Он собирает коллекцию женских портретов! Представляешь: мой портрет в доме миллионера!
— Какое ты еще дитя, — только и сказал я ей и нежно расцеловал ее.
В короткой заметке об этой выставке в «Торонто стар» я прочитал, какие картины молодых художников были куплены; среди них названа и моя, правда, меня представили как итальянца по имени Уласо К. Я не был тщеславен в подобных вопросах и потому лишь рассмеялся. Деньги для нас с Джулией были важнее всего — мы их истратили на брачный ритуал и скромный свадебный ужин, на котором присутствовали двое моих товарищей по работе — свидетели, их жены и Вапнярский с Дзяйло. Больше нам пригласить было некого. Не обошелся наш медовый месяц без ложки дегтя. Украинский еженедельник, орган мельниковцев, издание, которое я считал самым близким мне по духу, выступил с издевкой по поводу моего брака с итальянкой. Статья заканчивалась словами: «Ясно одно — пан Улас Курчак против чистоты украинской расы: то он был женат на польке, теперь на итальянке, и если завтра его женой станет еврейка или негритянка, это уже никого не удивит…»
Так началась наша жизнь с Джулией; вскоре и она устроилась работать. Мы перебрались в более просторную квартиру, обзавелись меблишкой, а затем у нас родился и первый ребенок.
Жизнь моя делилась на три части: работа на заводе, семья, в которой снова ожидалось прибавление, и занят ля делами ОУН. К Джулии и ребенку меня постоянно тянуло, где бы я не был; на собрания своих единомышленников, товарищей по националистической организации, я шел тоже с удовольствием, — мы проводили постоянную работу по организации различных политических акций против Советской Украины, готовили агитационно-пропагандистские выступления, обсуждали провокации против приезжавших в Торонто украинских ансамблей и других советских делегаций, короче, борьба или, я бы сказал, видимость борьбы продолжалась. Слово «видимость» я употребил не случайно — борьба должна была быть такой, чтобы ее оценили наши покровители свыше; тогда я еще не знал, кто они, а только догадывался. Пан Вапнярский-Бошик, который становился все циничнее, со мной был откровенней, чем с другими, и как-то сказал мне:
— Нам следует как можно больше шебаршить, если даже чего-то не получится, делать вид, что все о’кей, за это нам больше платят! — Вапнярский ткнул большим изогнутым пальцем карту в сторону Онтарио — там, за рекой Ниагарой, начинались Штаты. — А будем сидеть сложа руки, выиграют от этого лишь наши конкуренты.
Конкурентами были главари бандеровцев, они-то уж старались вовсю. В отношениях между нашими организациями царила зависть, недоброжелательность, имелись разные интриги, каждый завидовал источникам финансирования другого. Как я узнал позже, различные разведки использовали все это прежде всего в своих интересах, вынуждая самых дешевых и послушных из украинских националистов, особенно тех, кто был не у дел, выполнять самую грязную работу; и бандеровцы, и мельниковцы существовали, в основном, за счет этих разведок, на их же деньги разъезжали в собственных «мерседасах», жили в собственных виллах, окруженные телохранителями, наши лидеры.
Когда-то ОУН была единой, в те годы я преклонялся перед этой организацией и даже не подозревал, что она когда-то расколется, что обе оппозиции станут злейшими врагами. Во время первой моей встречи с паном Бошкком раскол уже произошел, Вапнярский принадлежал к мельниковцам и в походных группах на восток шел с мельниковскими формированиями; как он потом мне рассказывал, мельниковцы тогда была активнее в своих действиях, но после неудач на востоке, после того, как бандеровцы захватили руководство в УПА, Вапнярский-Бошик перешел на сторону бандеровцев, считая их людьми более решительными. Об этом он более подробно рассказал мне уже в Канаде и предложил примкнуть к мельниковцам, сказав, что их крыло состоит из более интеллигентных людей, в политическом отношении более гибких.
— А бандеровцы в основной своей массе сейчас кто? — говорил Вапнярский. — Малограмотные парубки, готовые в любой момент под настроение вырвать из плетня кол и бить по головам, не думая о последствиях. Сегодня нужна другая политика, все следует согласовать с теми, кто нас поддерживает…
Вапнярский часто и с горечью вспоминал о том, как произошел раскол и во что все это вылилось, о зверской жестокости Бандеры и иже с ним. Да я и сам уже знал о многом. Раскол расколом, но главное произошло в начале войны, когда после оккупации немцами Львова туда ринула вся наша националистическая братия. Были организованы краевые проводы ОУН мельниковцев и бандеровцев. Чтобы опередить бандеровцев, мельииковцы начали формировать походные группы для выступления на восток, намереваясь провозгласить свою власть в оккупированных немцами городах Восточной Украины; потому-то и ринулся туда вместе с ними пан Вапнярский-Бошик, сколько я помню, он всегда был крайне нетерпелив, когда дело касалось власти. Но мельниковцам недолго пришлось занимать кресла в полиции, в оккупационных бюро и немецких учреждениях, пытаясь воспитывать в своем духе восточных украинцев, которых больше карали, чем перевоспитывали, внутренняя борьба между мельниковцами и бандеровцами привела к тому, что бандеровцы начали убивать мельниковцев, иногда даже выдавали их немцам как «советских партизан». Недавно я просмотрел сборник «На руках Бандеры украинская кровь (бандеровские диверсанты убивают членов ОУН)», изданный мельниковцами еще в 1941 году. В нем собраны протоколы опроса свидетелей, членов ОУН. Не могу не выписать несколько абзацев: «Террор стал системой деятельности диверсантов-бандеровцев. Диверсанты, где бы они ни были, даже в милиции, получали от своих вожаков приказы: всюду, где только удастся, физически уничтожать мельниковцев, пусть это будут даже рядовые члены или молодые сельские хлопцы. Что же касается членов националистического актива, то снимки их диверсанты размножали и распространяли между своими сторонниками с приказом убивать этих людей. И диверсанты убивали. Убивали не только собственными каиновыми руками. Они так же выдавали, например, на Волыни и на восточноукраинских землях немецким военным властям членов ОУН как… большевистских парашютистов, партизан и шпионов…»