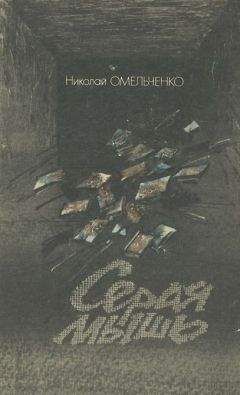Разъезжая по Канаде, наведываясь то в Штаты, то в Мюнхен, где было большое сосредоточение бандеровцев, Богдан Вапнярский-Бошик, уже окончательно перешедший в лагерь мельниковцев, но еще имевший немало приятелей и бывших сподвижников среди бандеровцев, изо всех сил старался примирить тех и других, наладить единство в диаспоре; однако ни те, ни другие, особенно главари, не хотели попадать в подчинение к своим противникам, даже если это вредило общей идее, общему делу. Мне лично кажется, что главари, даже поступаясь той идеей, о которой они так часто громко кричали на собраниях, съездах и в прессе, боялись открыть друг другу самое главное — источники финансирования своих организаций, так как за их спинами стояли сильные мира сего.
Несмотря на все это, в те времена я не охладевал к работе в ОУН. Был молод, задирист, эрудирован, и многие шли за мной, особенно молодежь, с которой я привык работать еще на Волыни. По душе было мне и рисование, это был мой отдых. Иногда Джулия чуть ли не силой оттаскивала меня от мольберта, просила помочь по дому или заняться детьми. А вот моя работа на заводе, что являлось материальным источником всей моей семьи, грязная, бездумная работа для меня, человека привыкшего к труду умственному, казалась мне неимоверно тягостной и приводила порой в отчаяние. Я не раз говорил об этом с Джулией и Вапнярским, с теми, кто был на том этапе моей жизни более близким мне; все советовали, если это возможно, вернуться к своей старой профессии учителя. Я и сам давно подумывал об этом, хотя и знал, что в Канаде для чужестранца все не так-то просто.
И все же я попробовал. Поступил на курсы: помог Вапнярский, у него везде были связи. Как-то он сказал мне:
— Курсы, конечно, дело хорошее, но устроиться работать учителем будет ой как нелегко.
— Поможешь, — усмехнулся я, глядя на него с надеждой.
— Посмотрим, — вздохнул он.
После окончания курсов я сам попытался устроиться куда-нибудь учителем, не хотелось лишний раз утруждать Богдана своей просьбой — у него по горло хватало работы в ОУН — шла подготовка к очередному Великому сбору украинских националистов, который должен был происходить где-то за пределами Канады. Сунулся было в одну, в другую школу, в технические училища, но мест нигде не оказалось, кроме того, все требовали рекомендаций, кто-то должен был за меня поручиться, тогда как от местных, даже от тех, кто приезжал из других городов Канады, ничего подобного не требовали. Однажды один из наших националистических лидеров с холодными глазами, но с постоянной елейной улыбкой на устах, спросил меня, как я устроился и как живу. Я, польщенный его улыбочкой и вдруг возникшим ко мне вниманием, разоткровенничался и рассказал ему все, упомянул о своих мытарствах в поисках учительской работы. Уже без улыбки, с мягкой пастерской строгостью он сказал мне:
— Друже Курчак, ты ведешь себя иногда не совсем правильно, слишком клонишься влево, чем вызываешь недоверие и гнев не только товарищей по организации, но и кое-кого из полицейской службы. Ты человек неглупый и должен понимать, что ни одна полиция, стоящая на страже безопасности своего государства, не жалует леваков.
— Чем же я им не угодил?
— О мелочах говорить не стану, — ответил тот, — однако об одном факте могу напомнить. В нашей газете в статье об УПА очень верно было написано о том, что она не сотрудничала с немцами, а ты выступаешь в дешевеньком либеральном журнальчике, где являешься постоянным сотрудником и даже, как я слыхал, одним из издателей этого пасквильного журнала, который, кстати, издается на деньги Москвы, пишешь опровержение и доказываешь, приводишь какие-то вымышленные факты о том, что наших доблестных повстанцев будто бы оружием и боеприпасами снабжали немцы.
— Так оно и было, — сказал я. — И вы тоже не можете этого не знать,
— Ну вот, — развел руками наш главарь и глаза его снова стали холодными, а улыбка слаще прежней. — Разве может учить наших детей человек, выступающий против правды их отцов?
С этим журналом у нас вообще было много мороки; выходил он редко и нерегулярно, на его издание постоянно не хватало денег, мы даже никому не платили гонорар, а уж о том, что его издание было связано с Советами или каким-либо другим стражем политического порядка, и речи не могло быть: мы печатали и националистические статьи с выпадами против Советов, и вместе с тем не брезговали публиковать хорошие стихи и рассказы современных советских украинских писателей, однажды перепечатали статью советского публициста, направленную против униатства и самого папы римского. Все эмигрантские националистические газеты тогда обрушились на нас, даже Вапнярский, относившийся к моему увлечению журналистикой довольно снисходительно, не вытерпел, рассердился:
— Смотри, доиграешься! За кого и против кого выступает твой журнал? Сегодня ты против коммунистов, а завтра против самого папы римского. Да вас же в порошок сотрут. Не пойму, чего ты хочешь?
— Хочу совершенно свободного журнала в стране, где свобода печати, хочу писать правду.
— Такого не бывает, любой журнал издает человек со своими собственными потрохами, требующими жратвы, и с мозгами, набитыми определенными идеями. «Вашим» и «нашим» служить нельзя — такого журнала нет. Поэтому ты страдаешь, поэтому тебя никуда учителем и не берут.
— Мне сказали, что и наш журнальчик скоро прикроют, — печально сознался я.
— Здесь, в свободной стране, никто закрывать его не будет, если вы не начнете тискать порнографию. Просто вам создадут такие условия, что вы сами его закроете.
Так оно и случилось — журнал перестали подписывать и покупать, средств на издание не было. Все и отказались от нас. Один из немногих попечителей прямо заявил:
— В школе мою дочь дразнят красной шлюхой, сына не приняли в бейсбольную команду, а у меня под домом постоянно шатаются какие-то типы и злобно таращат на меня глаза; иногда остановится машина, а то и две, прямо у двора и те же подонки расстреливают глазами мои окна. Вчера прямо среди бела дня над моей головой пролетел камень и стукнулся в забор. Я оглянулся — никого, поднял круглый голыш — таких у нас поблизости нет. Значит, привезли откуда-то. А если привезли, то конечно же, не один: у нас народ запасливый…
Я тоже стал замечать у своего дома потрепанного вида «шевроле». Появлялся автомобиль в то время, когда я шел на работу, медленно ехал за мной до остановки трамвая, затем резко срывался с места и сворачивал в соседнюю улочку. Я не выдержал и в очередной раз двинулся назад и пошел к нему, деваться ему было некуда, он тут же ринулся вперед и мне не стоило труда разглядеть очень знакомое лицо, это был кто-то из моих старых сподвижников, а точнее, из бывших молодчиков Петра Стаха. Я стал остерегаться: таким убить человека ничего не стоит.
— Журнал издавать мне нельзя, учить детей — тоже нельзя, осталось одно — рисовать и заливать смолой аккумуляторы, — с горькой иронией сказал я Вапнярскому.
Он был в те дни очень занят, посмотрел как бы сквозь меня, потом до него наконец дошло, что перед ним я, Улас Курчак, его ученик, единомышленник и в какой-то мере друг; он посмотрел на меня внимательно, обнял и сказал:
— Устал я, Улас, давай-ка пройдемся куда-нибудь в бар, да выпьем по коктейлю.
Мы вышли из Дома УНО и, как это случалось нередко, зашли в дешевенький португальский отель, на первом этаже которого был пивной бар и можно было заказать пару порций недорогого канадского виски. Выпив, Вапнярский оживился, стал, как обычно, говорить о своих делах и о себе, о том, что трудно цементировать им, объединять в единую силу все националистические организации, соперничающие между собой и ненавидящие друг друга, а потом начал ругать американских политических руководителей за непостоянность и нерешительность в действиях против мирового коммунизма.
— Они телились до тех пор, пока не утратили монополию на ядерное оружие, — говорил Богдан Вапнярский, — упустили время для свержения существующего строя в социалистических странах военным путем. Все их доктрины потерпели провал. Они бросались от одного ошибочного лозунга — сдерживания — к другому ошибочному лозунгу — освобождения от коммунизма — и не добились ни того, ни другого; забрели в тупик в борьбе с коммунизмом, который с каждым годом растет и ширится на всех континентах. Так говорю не только я, Богдан Вапнярский, опытный борец против коммунизма, об этом говорят и пишут многие политики Запада. Теперь истеблишмент передовых стран свободного мира пытается снова разрабатывать новые формы борьбы; и опять все та же нерешительность, медлительность, осторожность, точно все позабыли, что риск — это один из законов настоящей смелой игры. — Вапнярский заказывал все новые и новые порции виски, и уже не разводил их содовой, а запивал пивом, которое стояло нетронутым, так как у меня не было желания прикасаться к нему. В такие минуты, когда Вапнярский начинал провозглашать свои длинные монологи, мне было чисто по-человечески жаль его, этой зря растрачиваемой энергии, таланта. Отхлебывая виски, он подолгу держал его во рту, затем мгновенно глотал эту отвратительную жидкость, полузакрывал глаза и продолжал: