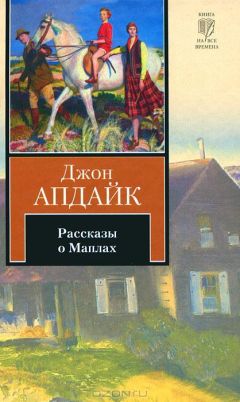— В таких случаях они норовят взыскать с больницы стоимость чистки, — пробурчал старик.
— Почему у меня шло медленнее? — спросила Джоан, помахивая поднятой рукой то ли от обиды, то ли от слабости.
— С женщинами обычно так и бывает, — сказал интерн. — В десяти случаях из десяти мужчины обгоняют женщин. У них сильнее сердце.
— Неужели?
— Так и есть, — вмешался Ричард. — Нечего спорить с медицинской наукой.
— В корпусе «С» спасли женщину, попавшую в аварию, — сообщил старик. — Теперь, говорят, она подает на больницу в суд за то, что потерялся ее зубной протез.
За такой болтовней пролетело пять минут. Ричард устал лежать с задранной рукой. То ему уже казалось, будто их с Джоан заперли в классе, где их никто не узнает, то, что они части головоломки, которую невозможно разгадать. Кому же придет в голову ответ: «Две белые березы на лугу».
— Если хотите, можете сесть, — разрешил интерн. — Только не отпускайте место прокола.
Они сели на своих кушетках, тяжело свесив ноги.
— У тебя не кружится голова? — спросила Ричарда Джоан.
— При таком могучем сердце? Не будь столь самонадеянной.
— Как вы думаете, ему понадобится кофе? — спросил ее интерн. — Я сейчас же закажу.
Старик завозился в кресле, готовясь встать.
— Не надо мне никакого кофе! — Ричард выпалил это так громко, что мысленно превратился в персонаж из обиженной стариковской болтовни, в ту же Айрис, хотя не такого богатырского роста: «Я встаю, чтобы принести кофе для полудохлого психа в лаборатории, а он на меня набрасывается, чуть голову мне не откусил!»
Чтобы продемонстрировать свое остроумие и полную вменяемость, Ричард указал на сданную ими кровь — два тугих пластиковых мешка — и заявил:
— В Западной Виргинии, откуда я родом, с собак иногда снимают таких же насосавшихся клещей!
Во взглядах слышавших его сквозило удивление. Он сказал не совсем то, что хотел? Или они никогда не видели уроженцев Западной Виргинии?
Джоан тоже показала на пакеты с кровью.
— Это наша? Вот эти кукольные подушечки?
— Наверное, надо отнести одну Бин, — предложил Ричард.
Интерн, судя по всему, сомневался, шутка ли это.
— Ваша кровь будет зачислена на счет миссис Хенрисон, — проговорил он без выражения.
— Вы что-нибудь знаете о ней? — спросила Джоан. — Когда ее ре… Когда ее будут оперировать?
— Думаю, завтра. Там еще операция на открытом сердце в два часа, для нее понадобится шестнадцать пинт.
— О… — Джоан была впечатлена. — Это же весь объем крови одного человека…
— Больше, — бросил интерн с царственным жестом, обещающим дары и отвергающим хвалу.
— Можно нам ее навестить? — спросил Ричард, чтобы сделать приятное Джоан. (Он не забыл, как она его стыдила.) Он не сомневался в отказе.
— Спросите у медсестры. Обычно перед такими серьезными операциями пускают только близких родственников. Думаю, с вами уже все. — Он имел в виду проколы. У Ричарда осталась маленькая ранка. Интерн обмотал ему руку ярко-оранжевым липким бинтом, такими пользуются только в больницах. Упаковка — их специализация, подумал Ричард. Они упаковывают человеческие останки для окончательной отправки. Шестнадцать кукольных подушек, одинаково темных и аккуратных, и все для одного открытого сердца; стоило ему представить такое, и жажда порядка сошла на нет.
Он опустил рукав и сполз с кушетки. Еще не успел коснуться ногами пола, а уже понял, что на него уставились три пары глаз в ожидании скандала, полные опаски и вожделения. Он встал, посмотрел на них сверху вниз и запрыгал на одной ноге, чтобы попасть другой ногой в ботинок, потом попрыгал еще. Последовали движения, которые он еще помнил по урокам танцев в семилетнем возрасте, когда его каждую субботу возили за двенадцать миль, в Кларксберг. Поклон жене, улыбка для старика. Интерну он сказал:
— Всю жизнь люди ждут, что я грохнусь в обморок. Не знаете почему? А я все не грохаюсь.
Пиджак и пальто показались ему странноватыми, какими-то скользкими, легкими, но уже в конце коридора пространство вокруг приобрело привычные пропорции. Джоан шагала рядом с ним и смиренно молчала, как ни просились с ее языка вопросы. Они вышли через широкую стеклянную дверь. Сквозь дымку из последних сил пробивалось чахлое солнце. За их спинами, где-то наверху, лежал и грезил о своих песках накачанный снотворным король Аравии. На своей койке миссис Хенрисон принимала двойню — одинаковые пакеты с кровью. Ричард стиснул плечи жены и зашептал, уходя с ней в прочувственном объятии:
— Я тебя люблю. Люблю, люблю, люблю.
Роман, если попросту, — это непознанное, неиспробованное. Для Маплов было необычным ехать вместе в одиннадцать утра. Обыкновенно они оказывались вдвоем в машине только в темноте. Он видел уголком глаза овал ее лица. Она наблюдала за ним, готовая схватить руль, если он вдруг потеряет сознание. Он испытывал нежность к ней в матовом свете утра, а к самому себе — любопытство: как глубоко в его мозгу спрятана черная яма? Он не улавливал в себе изменений, но, с другой стороны, сознание сопротивляется самоанализу. Чего-то он определенно лишился; стал меньше себя прежнего на целую пинту. При этом земля, все ее сигналы, все дома, машины и кирпичи, все продолжало жить в давно заведенном ритме.
Проехав Бостон, он спросил:
— Где будем есть?
— А что, надо?
— Давай лучше поедим. Я угощу тебя ленчем. Представь, что ты моя секретарша.
— У меня действительно такое чувство, будто мы совершаем нечто недозволенное. Разве я что-то украла?
— Ты тоже? Что же мы украли?
— Понятия не имею. Может быть, утро? Думаешь, Ева сумеет их накормить?
Евой звали их няню, костлявую соседскую девчушку, грозившую, по расчетам Ричарда, ровно через год превратиться в красавицу, от которой захватит дух. В среднем няни держатся по три года: нанимаешь их десятиклассницами, провожаешь до поры цветения, а потом они доезжают до конечной остановки и исчезают из виду: кто поступает в колледж, кто выходит замуж. А поезд идет дальше, берет новых пассажиров и сам стареет и стареет…
— Справится! — решил Ричард. — Чего тебе больше хочется? Вся эта болтовня насчет кофе вызвала у меня страшный голод.
— В блинной на Сто двадцать восьмой улице кофе подают не спрашивая.
— Блины сейчас? Ты серьезно? Думаешь, нас не стошнит?
— Разве тебя тошнит?
— Как будто нет. У меня чувство невесомости, но это, наверное, нервное. Никак не возьму в толк, как можно что-то отдать и все-таки сохранить. Это что, депрессия?
— Не знаю. Разве депрессия и жизнерадостность — одно и то же?
— Господи, я совершенно забыл, какие бывают виды темперамента! Меланхолик и сангвиник, холерик и флегматик — так, кажется?
— Куда-то подевались желчь и черная желчь.
— Чего у тебя не отнять, Джоан, так это образованности. В Новой Англии все женщины такие образованные!
— И притом — равнодушные к сексу.
— Верно, остается их высушить и сложить на полке. — Но в его словах не было злости. Он напоминал ей их прежний разговор, чтобы сказанное можно было оживить, разбавить и стереть из памяти. И это вроде бы сработало.
Ресторан, где подавали только оладьи и блины, в этот ранний час пустовал. За едой оба робко помалкивали. Его тронуло, что черника с блинов испачкала ей зубы, он поднес спичку к ее сигарете и сказал:
— Мне понравилось, как ты вела себя в лаборатории!
— Чего это вдруг?
— Такая храбрая!
— Ты тоже.
— Мне иначе нельзя. Приходится расплачиваться за обладание пенисом.
— Тсс!
— Забудь, что я назвал тебя равнодушной к сексу.
Официантка налила им еще кофе и дала счет.
— Еще я обещаю больше никогда не плясать твист и ча-ча-ча с Марлин Броссман.
— Глупости, мне все равно.
Это было равносильно разрешению, но он почему-то занервничал. Это ее высокомерие: почему она не борется? Добиваясь примирения, карабкаясь на гору, он взял счет и, ломая комедию — будто бы у них свидание и он дурак-ухажер, — сказал снисходительно:
— Я заплачу.
Но в бумажнике оказался всего один мятый доллар! Ему самому было непонятно, почему это его так рассердило, разве что потому, что доллар, не больше!
— Черт побери! Нет, ты взгляни! — Он помахал долларом у нее перед носом. — Всю неделю вкалываю не поднимая головы ради тебя и этого ненасытного выводка, и что же я имею в конце? Всего один чертов дырявый доллар!
Она взялась за сумочку, лежавшую рядом, не сводя с него глаз, ее лицо опять стало чужим, превратилось в жутковатую фарфоровую скорлупу.
— Каждый платит сам, — сказала Джоан.
Два спальных места в Риме
Маплы думали и говорили о разводе так долго, что его, казалось, вообще никогда не будет. Эти разговоры, все более противоречивые, то беспощадно обвинительные, то насквозь примирительные, с чередованием ударов и ласк, в конце концов только туже опутывали их болезненной, безнадежной, унизительной интимностью. Их занятия любовью продолжались вопреки очевидности — так растет здоровый ребенок, которого упорно недокармливают; когда утомлялись, наконец, их языки, происходило слияние тел: так соединяются в безмолвии две армии с наступлением конца военных действий, развязанных двумя безумными властителями. Их брак, окровавленный, изувеченный, десятки раз закопанный в могилу, отказывался умирать. Сгорая от желания разъехаться, они по привычке отправились вместе — в Рим.