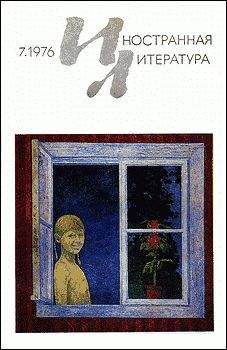— Я мог бы стать профессором по проблемам черных. Я мог бы стать партнером твоего отца и вновь открыть чикагскую контору — я ведь духовный брат. Там теперь идет поиск символов, верно? Для вашего истеблишмента. У нас могли бы появиться дети соответствующего цвета. Ты могла бы научить меня кататься на коньках.
— Нет, Счастливчик. Когда-то такое, возможно, могло бы быть, но не теперь. Мы бы просто стесняли друг друга, как это было всегда. Я понимаю, тебе трудно в это поверить, но между нами все кончено. Право же.
Она была права: мужчине трудно поверить, что его сексуальная власть над женщиной, сколько бы он ею ни злоупотреблял, ослабла. Нам кажется, что это наше таинственное притяжение существует в эфире, где никогда не бывает трения, а на самом деле оно окружено голыми как скала и полными острых углов жизнями других людей.
Нищий сказал:
— Наилучшие пожелания твоему папаше. — И, сжав обе ее белые ручки в своей руке, прошептал в гулкой прихожей: — Таллактуки, Таллактуки, Таллактуки.
Кадонголими в свое время сказала: «В этом доме тебе будут рады, когда все остальное рухнет». Однако, приближаясь к ее вилле в Ле Жарден, превратившийся в закопченную благоухающую деревню, Эллелу увидел, что предсказание Кадонголими уже сбылось: все заросло сорняками. За время дождей в дранке сараев появилась гниль, и жирная зелень на полых стеблях вырастала быстрее, чем люди могли утоптать шагами землю. Эллелу признали сразу, несмотря на то что он был в джинсах и солнечных очках. Его снова встретил пьяный тощий мужчина; голая девчонка снова взяла его за руку, но повела к могиле. Посреди двора, где были вырыты каменные плиты, чтобы устроить печи для лепешек, высилась гора свежей земли, уже поросшей ярко-зеленым адиантумом. Значит, для Кадонголими при ее объемах потребовалось перекопать такую массу все забывающей земли.
— Сердце у нее захолонуло, в конце она начала кричать, что не хватает воздуха, чтоб вынесли ее под открытое небо, — рассказала девчонка Эллелу, а он с удивлением смотрел на нее, слыша в ее голосе танцующие интонации своей первой жены, видя в этом стройном теле продолжение женского начала, те же возрожденные формы, которые он когда-то держал в объятиях. «Я — лев, она — газель».
— Она не звала Бини? — спросил я.
— В том числе и его. Но многие ухаживали за ней. Все как один человек. Она дожила, чтобы увидеть, как землю снова оросила вода, и сказала нам, что наш отец преуспел в жизни.
— А я хотел просить ее взять меня обратно. Теперь придется просить тебя.
— Нас выселяют. У Дорфу свои родные, свои люди. Уже, как видишь, хижины стоят пустые, на полях сладкий картофель перерос. Приезжали белые и скупили наши орудия и джю-джю для своих музеев. Мы с Ану побудем здесь, пока земля на могиле нашей матери не осядет и уже нельзя будет ее осквернить.
Ану — так звали моего зловредного дядюшку. Струйка его распутства и опасных качеств проникла через кровные узы вместе с красотой в меня, и я всегда, даже в смерти, останусь в этой паутине, пока поэты будут воспевать моих предков. Всюду природа брала верх. Узенькие тропинки, подобные тем, какие зайцы прокладывают по саванне, пересекали внутренние дворики, где тощие загорелые жены французских управителей, отложив в сторону томик Симоны де Бовуар, закапанный лосьоном для загара, громко хлопали в ладоши, призывая слуг принести еще citron pressé[71], еще кампари с содовой водой, еще любви под маской услужливости. Кадонголими лежала на одном из брошенных ими шезлонгов, а потом он рухнул, и вместо него теперь остался этот чудовищный выброс земли у моих ног. Этакая миниатюрная гора, по которой дождь уже начал прокладывать бороздки между порослью сорняков.
— Ты вернешься в деревню? — спросил я девчонку.
— В деревне у нас уже ничего нет. Говорят, что землю разделили для агрикультур, которые субсидирует новое правительство. У правительства есть планы, много планов.
— Ты ненавидишь новое правительство?
— Нет, — торжественно объявила девчонка ровным тоном, каким с предосторожностью произносят слова. — Они — последыши, глупцы, их нельзя за это винить. Кадонголими разговаривала с ними по поводу нашего выселения и очень позабавилась. Она их простила. Она им сказала, что в Куше было слишком много чудес и что чудодеи через какое-то время становятся злодеями. А глупцы — они и есть глупцы. Они предложили ей пенсию.
Эллелу заинтересовался.
— И она согласилась? Где эта пенсия? Она заполняла бумаги?
— Моя мама отказалась. Она сказала, что у нее была сладкая молодость и она полностью ею насладилась, а теперь она хочет испробовать неподслащенную горечь смерти. Она сказала, что мир ее умирает, жизнь завершила свой круг, и попросила месяц не трогать ее, чтоб ее тело взвесили, прежде чем опускать в землю. А для меня она попросила стипендию. Я думаю, что стану агрономом или педиатром. Ты благословляешь меня на это?
— Зачем ты спрашиваешь? В этом нет надобности. Правительство управляет и без Эллелу, его безумие мешало, вместо безумия правит теперь техника, а человек решил остаться животным среди животных, чемпионом. Иди осеменяй свою утробу или занимайся с помощью микроскопов другой дьявольщиной, какой от тебя потребуют тубабы. Их познания не что иное, как ад, — они теперь это знают и тем не менее навязывают его нам, тащат нас за собой, а мы стояли на обочине, отнимают у нас всякую надежду на рай. Они смотрят в микроскоп и говорят нам, что никакого духа нет. Нельзя представить себе жизнь на Земле в следующую тысячу лет иначе как ад, как жизнь под одним большим микроскопом.
— Мама говорила мне, — сказала девчонка, — что ты мой отец и не откажешься благословить меня. Даже у змеи каждая новая шкура ласкает старую по мере того, как та исчезает. — Это были, несомненно, слова Кадонголими, но произнесенные мягче, без насмешки, без того, что на языке салю мы называем двойным смыслом.
— И куда же ты поедешь учиться?
— Одни говорят, надо ехать в Каир. Другие — во Флориду. Это в Соединенных Штатах. Наше правительство на деньги от нефти создает там программу.
— Я слышал, там тяжелый климат. Непременно возьми с собой таблетки от малярии. А твой дядюшка Ану — что станет с ним?
— По-моему, министерство почт наняло его сортировщиком. Он должен только сидеть на стуле и бросать конверты в мешки. А мешки потом швыряют в Грионде. С тех пор как укрепились наши связи с революционным правительством в Америке, значительно увеличились почтовые поступления третьего класса. Кстати, я все еще не слышала, чтобы ты меня благословил.
— Зачем же благословлять то, что неизбежно?
— Именно это и нуждается в благословении, — сказала она. — А невозможное само о себе позаботится.
Я отвернулся. Я подумал, что если и дальше буду слушать, то услышу голос Кадонголими из этой горы земли, мало чем отличавшейся от того ее облика, который я видел в последний раз. Когда человек уходит, нам больше всего недостает его острот, — острот, понятных тем, кто нас знает: любовницам, бабушкам, детям. Искры вспыхивают в их глазах лишь однажды — когда мы уходим. Девчонка ждала вместе со мной, когда заговорит Кадонголими, пока мы оба не поняли, что эти цветущие травы и эти ручейки эрозии на глинистом холмике и есть ее слова. С ободранных пальмовых крыш пахнуло запахом, напомнившим кормоизмягчитель, полный земляных орехов, который служил для деревенской молодежи в пору вседозволенности пещерой и спальным местом. Перед моим мысленным взором пронеслись тени жирафов, этих невероятных мародеров с огромными глазами, которые неслись на прямых ногах под звяканье пестиков в ступках в руках перевозбудившихся мальчишек. Кадонголими унесла эти тени с собой в землю, не оставив мне никакого крова, кроме того, который я сам сумею себе создать. Снова пошел дождь, клюя могилу, скручивая листья. Голая девчонка рядом со мной затряслась. Я положил обе руки ей на голову — волосы ее, разделенные на ряды, были заплетены в тугие косички — и на исчезающем языке амазегов произнес благословение.
Кутунду нелегко было увидеть, не говоря уж о том, чтобы встретиться с ней. Она по-прежнему жила скромно, — что иногда делают люди могущественные, чтобы скрыть свое могущество, — в узком ветхом доме в Хуррийя, где ее, неграмотную соню, поселил Эллелу, когда они приехали в «мерседесе» с границы с Сахелем. Теперь тот же «мерседес», по-прежнему за рулем с Мтесой, чьи усы за это время стали значительно гуще, возил ее по крутым песчаным проулкам из ее квартиры во Дворец управления нуарами и обратно; вот только в окна были вставлены темные пуленепробиваемые стекла, сквозь которые можно было заметить лишь маленький курносенький профиль. Фотографии ее рядом с Дорфу на той или иной публичной церемонии часто печатались на страницах ставшей теперь официозом «Нувель ан нуар-э-блан», однако кушитские печатники еще не сумели освоить недавно привезенные американские офсетные станки, и изображение Кутунды было часто крапчатым или смазанным, так что ее нельзя было узнать. (До того как в 1968 году уйти в подполье, став подрывным контрреволюционным изданием, которое во времена конституционного правления короля превратилось в скандальную бульварную газетенку, печатавшую порнографию талидомидных уродов и астрологию кинозвезд, «Нувель» выпускалась на плоских прессах французами, которые, работая с набором Дидо и презирая всякую пиктографию, печатали снова и снова одни и те же герметичные и симметрично расположенные правила, а также рассуждения о негритюде из последних гениальных творений Жида, Сартра и Женэ.)