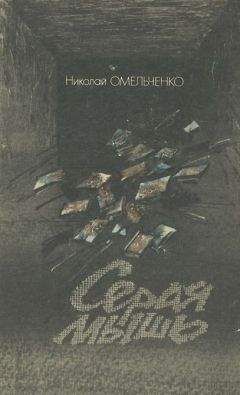Богдан обнял меня, успокаивая.
— Их больше нет, Улас. Они были в той, твоей первой жизни. А теперь у тебя новая семья. И делай все так, чтобы она была здорова и счастлива. Бог с тобой.
Джемма снова собиралась в туристическую поездку на Украину. При встрече со мной она была то задумчиво грустна, то необычно для нее возбуждена. За несколько дней до поездки пригласила меня на выставку миниатюр Василия Кричевского-сына. Джемма очень любила этого художника. Любовь, я бы сказал, даже какое-то ревностное отношение к нему было настолько сильно, что Джемма, не написавшая хотя бы маленького отзыва о своих товарищах-художниках, вдруг разразилась большой монографией о Василии Кричевском, упомянув в ней и о его знаменитом отце, братьях и других отпрысках этой семьи талантливых мастеров, сыгравших определенную роль в формировании украинского изобразительного искусства двадцатого столетия, особенно здесь, среди эмигрантов.
Выставку устроили в Эдмонтоне в середине марта. Мы прилетели туда с Джеммой, сняли номера в недорогом отеле и сразу же отправились в галерею, где состоялся уже посмертный вернисаж произведений Василия Кричевского. Художник умер 16 июня 1978 года, а последний день выставки, 18 марта, совпал с днем его рождения — 18 марта 1901 года. Я и раньше бывал на его выставках, видел репродукции картин Василия Кричевского в различных иллюстрированных журналах. В Эдмонте было представлено около ста его репродукций, на сей раз миниатюр, исполненных акварелью, цветными карандашами и тушью. Тематика их разнообразна — тут и пейзажи Слобожанщины, писанные по памяти, реминисценции юных лет, крымские горы и Черное море и рядом — пейзажи Калифорнии. Исполнены они с большим мастерством, во всяком случае, мне так кажется. Эти миниатюры Василия Кричевского по размеру гораздо меньше тех, которые мы привыкли видеть при его жизни. Писал он их совершенно больным, когда уже не мог работать на мольберте, рисовал преимущественно в постели. Обо всем этом мне вполголоса рассказывала Джемма.
— Но и среди этих произведений, — шептала Джемма, — есть настоящие жемчужины искусства. Вот хотя бы эта хатка с мальвами, упирающимися в стреху, или река под горою.
— Это Псел, — уточнил я.
— Откуда ты знаешь? — удивилась Джемма.
— Читал.
— Обычно человек на смертном одре поддается апатии, а Кричевский работал с утра до вечера, до последней минуты думал о искусстве, только им и жил.
— Я завидую ему, — сказал я тихо. — О таких людях следует постоянно помнить и учиться у них.
— Да, — согласилась со мной Джемма, — он прожил большую и сложную жизнь. Известно ли тебе, что Кричевский преподавал в художественно-индустриальной школе в Киеве, проявил себя в кинематографии, оформив шестнадцать фильмов, в том числе и знаменитую «Землю» Довженко?
— Об этом я прочитал в твоей монографии.
— Его произведения реалистичны с некоторыми нотками импрессионизма, но это вряд ли кто замечает, он чисто украинский реалист, — продолжала объяснять Джемма. — Да и не мог он быть другим. Прежде всего, конечно, это талант, сформировавшийся в украинской среде под влиянием своего отца Василия Кричевского, я, между прочим, видела дом, где он жил, и мемориальную доску на нем. Его дядя Федор — тоже художник, профессор. Поэтому-то его пейзажи совершенно оригинальны, резко отличаются от пейзажей западноевропейских и американских мастеров…
За нашей спиной раздался недовольный голос:
— И еще, панове, вы не сказали главного, того, что пан Василий Крический в своем творчестве диаметрально противоположен соцреализму московской продукции.
Мы обернулись. За нами стоял длинный и худой человек с гладко выбритым лицом; ни я, ни Джемма его не знали.
— Как вы смеете вмешиваться в наш разговор! — резко заметила Джемма.
Я тихонько прижал ее руку.
— Василий Кричевский — несравненный мастер неба и облаков, — продолжала Джемма, не обращая внимания на незнакомца, словно не замечая его. — Его сочные, нежные, жизнерадостные кодеры, виртуозно исполненные светотени, его пейзажи — вне конкуренции. И все же что-то помешало ему стать в ряды первых пейзажистов мира. Он никогда никого не представлял, словно был безродным.
— Почему «словно»? — возразил я. — Так оно и было.
Джемма, по всей видимости, не поняла меня, а объяснять ей почему-то не хотелось. Слушая ее, я с печалью думал о том, что, живи на Украине, он, безусловно, имел бы мировое признание, потому что представлял бы великую страну и не был бы, как заметила Джемма, «безродным».
А Джемма продолжала:
— Он был удивительно постоянен в своем творчестве, не искал модных «измов», не стилизовал природы хитромудрыми приемами, чтобы блеснуть оригинальностью; наоборот — был с природой в тесных контактах, мог найти, разглядеть в ней самое яркое и оригинальное, украсить рисунок самобытностью своего таланта. — Джемма, сама того не замечая, повторяла мысли и слова из своей монографии, а я смотрел на эти миниатюры, написанные по памяти, и думал: как же надо было любить свою родину, свою Слобожанщину, чтобы в последние, предсмертные дни своей жизни изобразить ее по памяти так, как не всякий мастер напишет и с натуры. И вспомнились мне строки из его биографии, как он еще в юные годы вместе с братом Николаем проведывал свою бабушку Параску Кричевскую в селе Ворожба, на Слобожанщине, в одном из очаровательнейших уголков Украины, где на реке Псел еще стояли водяные мельницы, а на околице доживали свой век старинные казацкие хаты. Юноши часто бывали и в Лебедине и в окрестных селах, все это сохранилось в сердце художника до конца его дней. Многое из того прошлого теперь перед нами, за тысячи километров от родины, в галерее «Оксфорд»…
Выходя из галереи, мы неожиданно встретили Юрка Дзяйло.
— Уж не на выставку ли? — удивился я.
— На какую еще выставку? — приняв мои слова за насмешку, обиженно спросил Юрко.
— Здесь вернисаж Кричевского, — сказала Джемма.
— Не знаю такого, — смешался Юрко; вряд ли он знал и значение самого слова «вернисаж»,
— У тебя тут дела? — спросил я.
— Да вот приехал узнать, как устроиться в богословскую студию.
— Смотри, еще станешь архиепископом, а то и самим владыкой, — усмехнулся я.
— Владыкой, может, я не буду, грехов слишком много, а священником желаю стать. Хочу посвятить остаток своей жизни богу и святой церкви.
Обратно мы летели вместе. Джемма села в кресле у выхода, где она могла курить, не докучая табачным дымом нам с Юрком. Мы сидели в креслах рядом.
— Учителем тебя так и не взяли? — спросил у меня Юрко.
— Нет.
— Значит, не поддался на их уговоры.
— Не поддался.
— Ну и правильно сделал.
Стюардесса принесла нам кофе и пакетики с орехами. Юрко грыз орехи, запивал их кофе и задумчиво говорил:
— Меня ведь тоже уговаривали и наши, и еще кое-кто… Наши говорили, мол, с американцами ссориться не стоит, они единственная сила, способная освободить Украину от коммунистов. Освободят и отдадут ее нам, националистам. А моя задача — хорошо поработать на Украине, собирать военную и экономическую информацию, в которой нуждался наш провод. Меня должны были обучить тайнописи, шифрам, связываться по радио с радиостанциями, которые ведут передачи на украинском языке…
В последние дни марта мы провожали Джемму на Украину. Все что-то ей заказывали: Дя-нян — деревянные ложки и шкатулку, Калина — духи «Красная Москва» и ноты современных советских композиторов, Джулия сунула бумажку с записями семян каких-то цветов, а я попросил зайти на рынок и купить белых грибов — они так пахнут нашими волынскими лесами, а в Канаде белые грибы не растут.
Мы стояли на ветру, по-мартовски сырому и холодному, до тех пор, пока лайнер не взлетел, сделал над аэродромом крутой разворот и лег курсом на Монреаль. Все были оживлены, только мне было грустно, словно я предчувствовал что-то плохое…
Из всех моих детей Вапнярский любил только Джемму; любил он ее за талант и, конечно же, прежде всего, за то, что она хорошо знала украинский язык, тянулась ко всему украинскому и высоко чтила украинскую культуру.
— Такие, как твоя Джемма, — это надежда нашей нации, — говорил он и тут же непременно добавлял: — Эх, ей бы еще нашу идеологическую позицию! Тут уж твоя промашка. Воспитывал других, а своих не воспитал.
— Не один я такой; каждый второй из тех, с кем моим детям приходилось иметь дело, — воспитатели не хуже меня. А МУНО [4], в котором они состояли половину своей сознательной жизни?
— А-а-а, — досадливо протянул Вапнярский, — что это МУНО! Оно только и способно побегать с лозунгами да покричать у входа в концертные залы, когда приезжает какой-нибудь ансамбль из Края. Поорут, повизжат, а потом бросают свои бумажные лозунги в урны и, сломя голову, несутся слушать тех, против кого только что выступали.