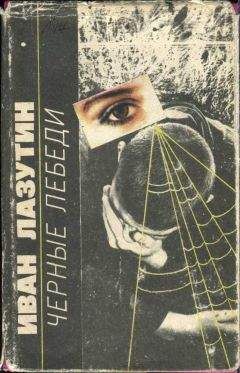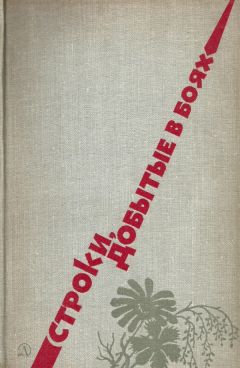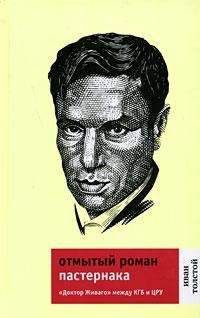Дмитрий перевел взгляд вправо: из-за высокой сучковатой изгороди бабки Регулярихи показалась черная пролетка с породистым вороным жеребцом в оглоблях. Дмитрий вгляделся. В пролетке, натянув вожжи, сидел Кирбай. «Да, это он…» На нем был серый плащ и фуражка с малиновым околышем.
Тонконогий орловский рысак, выбрасывая вперед ноги, шел ровно. Казалось, поставь на его холку стакан с водой — не расплескается. Не доезжая до усадьбы Шадриных, Кирбай придержал рысака, круто осадил его. Из-под стальных, отдающих голубизной удил в губах жеребца падали клочья белой пены. Вначале Кирбай сделал вид, что не заметил Шадрина, и остановился прикурить. И только прикурив, он повернул голову в сторону Дмитрия. Было во взгляде Кирбая что-то ликующее.
— Говоришь, вернулся?
— Как видите.
— Поди, синяки да шишки приехал зализывать?
— За чем-нибудь приехал…
— Ну что ж, давай, давай. Тебе видней, где…
Последних слов Кирбая Дмитрий не расслышал, они были сказаны, когда жеребец, почувствовав нахлест вожжой, утробно екнул селезенкой и ровной рысью понес его по прибитой дождем дороге. Из-под колес пролетки, сзади, двумя рваными хвостами летели черные ошметки грязи.
«Он, наверное, все знает», — подумал Дмитрий.
На крыльце стояла Ольга. Она звала ужинать.
Как и раньше, до войны, ужинали Шадрины рано. И никогда, как сызмальства приучил их покойный отец, за столом ни старые, ни малые не разговаривали. А если случалось, что кто-нибудь из братьев фыркнет от смеха, брызнув щами на стол, то деревянная ложка в руках отца тут же кололась пополам о лоб озорника. И никто никогда не обижался на него за такую строгость.
Ужинали невесело. Мать чувствовала сердцем, догадывались Сашка и Ирина, что в жизни Дмитрия стряслось что-то неладное, а что — никто не решался спросить. Не сентиментальными растил их отец, не баловала излишней лаской и мать: некогда, да и не дело гладить по головке ребят, из которых должны вырасти самостоятельные, работящие люди. Детей любили Шадрины по-своему, почти по-староверовски: скрыто, строго. Подчиняясь этому, десятилетиями сложившемуся шадринскому укладу, покорно молчала и Ольга. Опустив глаза, она ела медленно, как на поминках.
…В эту ночь Дмитрий и Ольга долго не могли заснуть. Стоило ему только закрыть глаза, как он отчетливо видел: из-под колес черной пролетки летели рваными хвостами ошметки черной грязи. Екая селезенкой, вороной рысак гордо нес свою голову на крутой лоснящейся шее. Стальные рессоры пролетки то натужно сходились, то расходились под тяжестью увесистого Кирбая.
Дмитрий то и дело тяжело вздыхал и, переворачиваясь с боку на бок, раздраженно сбрасывал с себя одеяло. Ольга потихоньку встала, прошла на носках к этажерке и включила радио.
Передавали песни по заявкам ветеранов войны. Концерт только что начался. Грустный, сдержанный голос уводил туда, где когда-то была война, где рвались снаряды, где, недомечтав, недолюбив, умирали солдаты.
С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист,
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист…
Ольга плотней прильнула к Дмитрию, погладила его волосы.
Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет…
Ольга, Москва, Кирбай, вороной рысак, мокрые шлепки грязи из-под колес пролетки — все это было захлестнуто тягучей, как осенняя изморось, и грустной, как журавлиный клекот, песней…
Печальная мелодия перерастала в далекие картины минувших лет. Война… 1944 год… Войска Первого Белорусского фронта готовились к наступлению. После зимы, в течение которой передняя линия фронта почти не двинулась ни на километр, солдаты, пригретые первыми лучами весеннего солнца, с нетерпением ждали приказа наступать. Надоело все: бои, окопы, блиндажи… Надоела война — за три года она засела у всех в печенках. Опостылели топкие Пинские болота, где в землю не зароешься: копнешь на штык — и уже под мерзлой коркой земли сочится вода. Устали солдаты. Хотелось жить во всю широту неуемной молодости. Хотелось ложиться спать не в сапогах, свернувшись калачиком, прижавшись спиной к животу товарища, а как и полагается человеку — по-человечески. Дмитрию вспомнилась почему-то одна страшная февральская ночь, которая унесла много солдатских душ. Над лесом, пригибая вершины сосен, гудела метель. Прорываясь сквозь лесные чащобы, она лихорадочно танцевала на маленьких, пятачковых полянках. Поднимая вихри снега, бросала его на стонущие сосны, секла горячими искрами солдатские лица. Ледяными мертвящими пальцами залезала под барашковые воротники полушубков, слепила глаза…
…Ольга всхлипывала. Плечи ее вздрагивали.
— Уедем отсюда…
Дмитрий встал, на ощупь нашел папиросы, закурил. Выключил радио.
— Я чувствую — здесь добра не будет.
Дмитрий долго молчал. Выкурив папиросу, ответил:
— Хорошо, уедем.
В эту же ночь, под утро, с курьерским поездом «Владивосток — Москва» Дмитрий и Ольга покинули маленькую станцию, на которой Дмитрий, по-детски волнуясь и робея, много лет назад впервые в жизни услышал удары станционного колокола, извещавшие о приходе пассажирского поезда, который вез в далекие неизвестные города хорошо одетых людей. Как тогда ему, восьмилетнему мальчишке, хотелось скорей вырасти и поехать на поезде в эти большие, неведомые города.
А на следующий день, но уже под вечер, рябой милиционер, боясь собаки, осторожно вошел в шадринский палисадник и, вскарабкавшись на земляную завалинку, поросшую лебедой, несмело постучал в окно. Ему никто не ответил. Громыхая цепью, из конуры с басовитым лаем выскочила собака. Милиционер повторил стук, на этот раз громче.
К окну подошел Сашка. Сонно почесывая затылок, он прищурился, стараясь разглядеть, кого несет нелегкая. Увидев милицейскую фуражку, тут же проглотил зевок, прикрывая рот ладонью.
— Кого вам?
— Товарища Шадрина.
— Какого?
— Того, что из Москвы приехал… Вызывает немедленно майор Кирбай. Пусть оденется и выйдет во двор. Велено доставить в отдел.
— А его нет…
— А где он?
— Уехал…
— Как уехал?!
— А очень просто, сел в вагон и уехал. На поезде, на железном, что по рельсам ходит…
— Ты брось мне придуриваться!.. Когда и каким поездом братень уехал?
— Что-что? — делая вид, что он не расслышал вопроса, продолжал полусонно почесываться Сашка.
— Ты вот что… Не крути мне мозги. Отвечай: каким поездом уехал братень? И какой номер вагона?
— Не помню, товарищ начальник… Убей на месте — не помню. Побожиться могу. Вчера вот помнил, а сегодня забыл. Память стала дырявой, — и, видя, что милиционер открыл рот, чтобы оборвать его притворство, продолжал: — Пожарка-то у нас, сам знаешь, на бугре стоит. Торчишь на ней с утра до вечера — вот и выдувает.
— При чем здесь пожарка?!
— А при том, что на бугре стоит. А ветрищи нонешное лето, сам видишь, какие. У Самковых позавчера крышу с сарая сорвало, а у деда Красикова сети с тычек унесло в озеро…
— Когда и во сколько часов он уехал? — допрашивал милиционер.
Сашка, продолжая паясничать, засучил до локтя левую руку и поднес ее вплотную к окну:
— Часы еще в прошлом году потерял. Когда картошку копали. Весь огород на коленках облазил, так и не нашел. Но, думаю, Васька Чобот, соседский малец, слямзил, когда я пить в избу ходил. Часы на рубашке лежали — снял, чтобы маятник от сотрясений не сбить…
Рябой милиционер, видя, что толку от парня не добьешься, откашлялся и, с трудом удерживаясь на завалинке, снова спросил:
— Поди, с курьерским улизнул?
Делая вид, что он мучительно припоминает поезд, Сашка закатил глаза под лоб:
— Поезд-то?.. Длинный-предлинный, вагонов — не сосчитать. И все как один: такие зелененькие, с железными приступочками…
Милиционер плюнул, сердито выругался и спрыгнул с завалинки.
Когда он закрыл за собой калитку палисадника и вышел на дорогу, Сашка, глядя ему вслед, подумал: «Ищи, дяденька, в поле ветра…»
Долго в тот вечер скрипели под тяжелыми сапогами майора МГБ Кирбая крашеные половицы его кабинета. Он ходил от стола к двери, от двери к столу и курил. Время от времени вскидывая свою седеющую голову и плотно сжав губы, прищурившись, смотрел куда-то далеко-далеко, сквозь стены, на одной из которых висел портрет Сталина, на другой — Берии. Казалось, взгляду Кирбая не было преград, для него не существовало расстояний… На восток он видел до Магадана, на запад — до Москвы и дальше…
— Почуял… Улизнул… Проморгали шалопаи…
Половицы скрипели. На стене, глядя друг на друга, висели два портрета.
И снова Москва…
После сибирских просторов столица Шадрину показалась, как никогда, промытой и вылощенной. Мария Семеновна обрадовалась, что Ольга вернулась. За какие-то три недели она заметно постарела и осунулась. Ничто так не гнетет человека в старости, как одиночество.