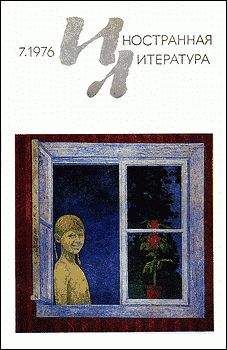Затем под покрытым глянцевитыми волосами черепом Беджера начали расти как грибы целые храмы Афины Паллады, города и виллы молодого мира, по дороге од пребывал в самом радужном настроении. Но, сидя за первой чашкой кофе у себя в норе, Беджер понял, что его беломраморные цивилизации были беззащитны перед захватчиками. Эти белоснежные, с высокими сводами строения, олицетворявшие принципиальность, мораль и веру, - эти дворцы и памятники кишели толпами испускавших боевой клич полуголых людей в накинутых на плечи вонючих звериных шкурах. Они врывались через северные ворота, и Беджер, который, сгорбившись, сидел над своей чашкой, видел, как один за другим исчезали его храмы и дворцы. Через южные ворота варвары выходили, не оставив бедному Беджеру в утешение даже сознания несчастья, оставив его ни с чем, со своей собственной сущностью, которая никогда не была хоть сколько-нибудь лучше аромата увядшей лесной фиалки.
- Mamma e Papa Confettiere arrivan' domani sera [мама и папа Конфеттьере приедут завтра вечером (итал.)], - сказал Джакомо.
Он опять вкручивал электрические лампочки в патроны, висевшие на длинной проволоке среди деревьев подъездной аллеи. Мелиса ласково встретила Мозеса у дверей, как в тот раз, когда он впервые появился здесь, и сказала ему, что завтра вечером приезжают старые друзья Джустины. Миссис Эндерби была в кабинете и передавала по телефону приглашения, а д'Альба бегал в переднике по залу и командовал дюжиной горничных, которых Мозес раньше никогда не видел. В доме все было вверх дном. Двери в гостиные, пахнущие летучими мышами, стояли раскрытые настежь, и Джакомо вытаскивал подушки из разбитых окон зимнего сада, куда вносила привезенные на грузовике пальмы и кусты роз. Сесть было некуда, и они закусили бутербродами и выпили вина в зале, где музыканты (восемь женщин) скаддонвилского симфонического оркестра снимали с арфы потрескавшийся прорезиненный чехол и настраивали инструменты. Веселье старого дворца, полного суматохи в канун приема гостей, пробудило в Мозесе воспоминания о Западной ферме, словно этот дом, подобно тому, другому, глубоко запал в сознание его обитателей, даже снился этим склонным к ночным похождениям горничным, которые возвращали из забвения и начищали старые комнаты, как бы набираясь ума-разума. В больших подвальных кухнях оказались летучие мыши, и две девушки с визгом взбежали по лестнице с посудными полотенцами на голове, но это небольшое приключение никого не испугало, а только усилило причудливость обстановки, ибо кто в наши дни настолько богат, чтобы в его кухне водились летучие мыши! Огромные ящики в погребе были наполнены мясом, и вином, и цветами, все фонтаны в парке били, вода выливалась из позеленевших львиных пастей в бассейн, тысяча ламп горела в доме, подъездная аллея сверкала огнями, как деревенская ярмарка, в саду тут и там, одинокие и ничем не затененные, как в прихожих меблированных комнат, горели лампочки; все это, вместе с открытыми в десять-одиннадцать часов вечера дверьми и окнами, неожиданно холодным ночным воздухом и узким серпом луны в небе над широкими лужайками, напомнило Мозесу о каком-то загородном доме в военное время, о горечи приезда в отпуск и расставаний, об афишах и прощальных танцах в разгульных портовых городах вроде Норфолка и Сан-Франциско, где темные корабли ждали на рейде спавших в своих постелях любовников, и все это могло никогда не повториться вновь.
А кто такие мама и папа Конфеттьере? Это Луиджи и Паула Беламонте, последние представители haut monde [высшего света (фр.)] среди владельцев prezzo unico botteghe [магазины стандартных цен (итал.)]. Она была дочерью калабрийского крестьянина, а Луиджи родился в задней комнате римской парикмахерской, пропахшей фиалками и состриженными волосами, но к восемнадцати годам скопил достаточно денег, чтобы открыть магазин prezzo unico. Он был итальянским Вулвортом, Крессом, Дж.П.Скаддоном и в тридцатилетнем возрасте сделался миллионером, с виллами на юге и замками на севере. После пятидесяти лет он отошел от дел и последние два десятилетия путешествовал с женой в "даймлере" по Италии, бросая из окна машины леденцы попадавшимся на улицах детям.
Они выехали из Рима после пасхи; о дне их отъезда сообщалось в газетах и по радио, так что у ворот их дома собралась толпа в ожидании первых в этом году бесплатных конфет. Они поехали на север, к Чивитавеккье, разбрасывая конфеты налево и направо - сотню фунтов здесь, триста фунтов там, - оставив в стороне Чивитавеккью и все более крупные города, лежавшие на их пути, так как однажды в Милане толпа в двадцать тысяч детей чуть не разорвала их на части, а в Турине и Ливорно произошли серьезные беспорядки. Их видели в Пьемонте и Ломбардии, а затем они двинулись к югу через Портомаджоре, Луго, Имолу, Червию, Чезену, Римини и Пезаро, раскидывая пригоршнями лимонные драже, мятные лепешки, лакричные палочки, анисовые драже, круглые леденцы, вишневые леденцы на палочке. Улицы, по которым они проезжали после того, как поднялись на Монте-Сант-Анджело и спустились к заливу Манфредония, уже стали покрываться опавшими листьями. Когда они проезжали Остию, там все было закрыто, как были закрыты отели в Лидо-ди-Рома, где они выбросили остатки своих конфетных запасов детям рыбаков и сторожей, после чего повернули к северу и возвратились домой под чудесные небеса зимнего Рима.
Утром Мозес захватил с собой на работу небольшой плоский чемодан и во время перерыва на ленч взял напрокат фрак. Поздними летними сумерками, когда в воздухе уже пахло осенью, он шел от станции к замку. Вскоре в рано наступившей темноте он увидел "Светлый приют", все окна которого светились в честь мамы и папы Конфеттьере. Зрелище было веселое, и, войдя в дом через террасу, он обрадовался, увидев, в какой порядок все было приведено, как все сияло чистотой и дышало покоем. Горничная, проходившая через холл с какой-то серебряной посудой на подносе, ступала бесшумно, в только звуки фонтана в зимнем саду и гул воды, поднимающейся по спрятанным в стенах трубам, нарушали тишину дома.
Мелиса была уже одета, и они выпили по бокалу вина. Мозес стоял под душем, когда повсюду погас свет. Теперь в этом прежде беззвучном доме зазвучали испуганные и тревожные голоса, а кто-то, застрявший в старом лифте, принялся стучать в стены кабины. Мелиса принесла в ванную зажженную свечу; Мозес натягивал брюки, как вдруг свет загорелся. Джакомо был где-то поблизости. Они выпили еще по бокалу вина, сидя на балконе и наблюдая за подъезжавшими автомобилями. Джакомо указывал им место стоянки на лужайках. Одному богу известно, откуда миссис Эндерби набрала гостей, но она набрала их достаточно, и шум разговоров даже с третьего этажа звучал как октябрьский океан в Травертине.
В зале было, вероятно, человек сто, когда Мозес и Мелиса сошли вниз. Д'Альба находился в одном конце, а миссис Эндерби - в другом, и они направляли слуг к тем, у кого бокалы были пустые, а Джустина стояла у камина рядом с почтенной итальянской четой. Супруги были смуглые, яйцеобразные, веселые и не знали, как обнаружил Мозес, здороваясь с ними, ни слова по-английски. Обед был великолепный, с тремя сортами вин, сигарами и бренди на террасе по его окончании. Затем скаддонвилский симфонический оркестр заиграл "Поцелуй в темноте", и все пошли в дом танцевать.
Беджер, хотя и не получил приглашения, был тоже здесь. Он пришел со станции после обеда и, слегка подвыпивший, слонялся вдоль стен зала, где шли танцы. Он и сам не мог бы сказать, зачем приехал. Джустина заметила его, и колкий взгляд, которым она его окинула, и то, что на ней не было никаких драгоценностей, напомнили Беджеру о его намерении. В этот вечер он испытывал чувство человека, встретившегося со своей судьбой и преклонившегося перед пей. Это был чудеснейший час в его жизни. Он поднялся по лестнице и снова отправился в путь по тем крышам (вдалеке слышалась музыка), по которым когда-то довольно часто лазил во имя любви, а теперь лез с гораздо более серьезной целью. Он направился к балкону Джустины в северном конце дома и вошел в ее огромную комнату со сводчатым потолком и массивной кроватью. (Джустина на ней никогда не спала; она спала на маленькой походной кровати за ширмой.) Решение не надевать драгоценностей, очевидно, было принято внезапно, так как все они кучей валялись на ее потрескавшемся и облупленном туалетном столе. В стенном шкафу Беджер нашел бумажный мешок - Джустина собирала бумагу и веревки - и сложил в него драгоценности. Затем, надеясь на божий промысел, он смело вышел в дверь, спустился по лестнице, прошел лужайки, где музыка слышалась все тише и тише, и поездом одиннадцать семнадцать уехал в город.
Садясь в поезд, Беджер не имел еще никакого представления о том, что он сделает с драгоценностями. Возможно, он предполагал вынуть некоторые камни из оправы и продать их. Поезд был местный - последний, - увозивший обратно в город тех, кто гостил у друзей и родственников. Все они казались утомленными; некоторые были пьяны; потные, они урывками спали в душном вагоне, и Беджеру чудилось, что все они принадлежали к одному великому братству близких по духу усталых людей. Почти все мужчины сняли шляпы, но примятые волосы лежали неровно. На женщинах были нарядные платья, сидевшие, однако, криво, а локоны уже начали развиваться. Многие женщины спали, положив голову на плечо мужа. Запахи и расслабленное выражение большинства лиц вызывали у Беджера такое ощущение, словно вагон был огромной кроватью или колыбелью, в которой все они лежали вповалку в состоянии необыкновенной невинности. Все они терпеливо сносили одни и те же вагонные неудобства, все они ехали в одно и то же место, и Беджеру казалось, что, несмотря на внешнее убожество и усталость, они отличались одинаковой красотой души и намерений; глядя на крашеные рыжие волосы женщины, сидевшей напротив, он приписывал ей способность создавать отыскивая их где-то чуть ниже порога сознания - такие прекрасные и грандиозные образы, которые не уступали разрушенным величественным статуям Афины Паллады, возникшим в его воображении.