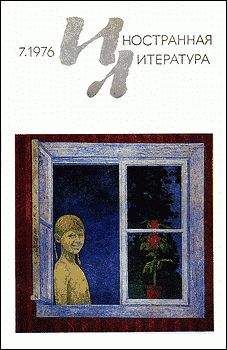ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
36
В начале лета Бетси и Мелиса родили по сыну, и Гонора полностью, даже больше чем полностью, сдержала свое слово. Представитель Эплтонского банка сообщил эту приятную новость Каверли и Мозесу, и те согласились продолжать выплату установленных Гонорой взносов на содержание Дома моряков и Института слепых. Старая дама больше не желала иметь дела с этими деньгами. Каверли приехал из Ремзен-Парка в Нью-Йорк, и они с Мозесом собирались провести уик-энд в Сент-Ботолфсе. На деньги Гоноры они решили прежде всего купить Лиэндеру пароход, и Каверли написал отцу о скором приезде.
Лиэндер ушел с фабрики столового серебра, заявив, что возвращается на море. В субботу утром он проснулся рано с намерением пойти на рыбалку. Еще до восхода солнца, пытаясь натянуть резиновые сапоги, он подумал о том, как износилось его снаряжение, подразумевая под этим свое собственное тело. Он неудачно повернул колено, и резкая боль, расходясь в разные стороны, пронзила все его тело. Он взял удочку для форели, прошел полями и начал рыбачить в заводи, где Мозес когда-то увидел Розали. Он был поглощен своими ухищрениями, попытками обмануть рыбу с помощью птичьего пера и обрезка конского волоса. Листва была густая и испускала острый запах, а на дубах галдел вороний парламент. Много больших деревьев в лесу свалилось или было срублено на протяжении его жизни, но река осталась все такой же красивой. Когда Лиэндер стоял в глубокой заводи и солнечные лучи, проникая сквозь ветви деревьев, освещали камешки на дне, она казалась ему чем-то вроде входа в Аид, тончайшей пеленой света отделенный от того мира, где солнце согревало его руки, где вороны галдели и пререкались о налогах и где слышался шум ветра; и когда он увидел форель, она показалась ему тенью - призраком смерти, - и он подумал о своих ныне умерших компаньонах по рыбной ловле, память о которых он бодро отмечал тем, что брел сейчас по воде. Закидывая удочку, подтягивая леску, отцепляя мушки от коряг и разговаривая сам с собой, он чувствовал себя занятым и счастливым; он думал о своих сыновьях, о том, что они ушли в широкий мир и оправдали возложенные на них надежды, нашли себе жен, и будут теперь богатыми и скромными, и будут заботиться о благополучии удалившихся на покой моряков и слепых, и у них будет много сыновей, которые продолжат их род.
Этой ночью Лиэндеру снилось, что он находится в какой-то незнакомой стране. Он не видел огня и не ощущал запаха серы, но все же думал, что ходит один по аду. Ландшафт напоминал какой-то уголок близ моря с грудами обломков разрушенной горной породы, но на протяжении многих миль, что прошел Лиэндер, никаких следов воды он не заметил. Ветер был сухой и теплый, а небу недоставало той яркости, какую наблюдаешь над водой, даже издалека. Он ни разу не услышал шума прибоя и не увидел маяка, хотя берега этой страны не могли быть освещены. Тысячи, миллионы людей, мимо которых он шел, были все, за исключением одного старика, обутого в башмаки, босы и голы. Острая галька до крови колола им ноги. Ветер, и дождь, и холод, и все другие мучения, выпавшие на их долю, не ослабили восприимчивости их плоти. Они были охвачены либо стыдом, либо вожделением. На тропинке он увидел молодую женщину, но, когда улыбнулся ей, она закрылась руками, и лицо ее было мрачно от горя. У следующего поворота тропинки он увидел старуху, распростертую на сланцеватой глине. Волосы у нее были крашеные, тело тучное, и какой-то мужчина, такой же старый, как она, сосал ее грудь. Он видел мужчин и женщин, которые на глазах у всех предавались любви, причем молодые, красивые и полные сил казались более сдержанными, чем пожилые, и во многих местах он видел молодых людей, спокойно лежавших рядом, словно плотские утехи в этой незнакомой стране были по преимуществу развлечением старости. На другом повороте тропинки мужчина - сверстник Лиэндера, - чье тело поросло пестрыми волосами, в крайнем эротическом возбуждении приблизился к нему. "Это начало всей мудрости, - сказал он Лиэндеру, показывая на свой фаллос. - Это начало всего". Он удалился по глинистой тропинке, подняв кверху указательный палец, и Лиэндер проснулся, чтобы услышать нежный шум южного ветра и увидеть ласковое летнее утро. Освободившись от сна, он с отвращением вспоминал о его гнусности и был благодарен свету и звукам наступившего дня.
В это утро Сара сказала, что слишком устала и не пойдет в церковь. Лиэндер всех поразил, заявив, что пойдет один. Это будет зрелище, сказал он, при виде которого ангелы на небесах замашут крыльями. Веселый, он пошел к ранней обедне, не вполне убежденный в ценности своих молитв, но довольный тем, что, стоя на коленях в церкви Христа Спасителя, он находился больше, чем где бы то ни было на свете, лицом к лицу с простым фактом своей причастности к человеческому роду.
- Восхваляем тебя, благословляем тебя, поклоняемся тебе, славим тебя, громко повторял он, не переставая одновременно спрашивать себя, чей это баритон по ту сторону прохода и кто эта хорошенькая женщина справа, от которой пахло яблоневым цветом. Его прошиб пот, и у него даже засвербило где-то в нижней части живота, и, когда за свиной скрипнула дверь, он подумал, кто бы это мог так поздно прийти. Теофилес Гейтс? Мерли Старджис? Даже когда служба дошла до кульминации и началось причащение, Лиэндер отметил, что плюшевая подушка псаломщиков прибита к полу и что на алтарном покрове вышиты тюльпаны. Стоя на коленях перед решеткой, он заметил также, что на церковном вонючем ковре валялось несколько сосновых или еловых игл, пролежавших там много месяцев, с самого рождества, и это развеселило его, как будто горсточка сухих игл давным-давно упала с древа жизни и напомнила о его благоухании и живучести.
В понедельник около одиннадцати утра ветер задул с востока, и Лиэндер, поспешно захватив бинокль а плавки и приготовив себе бутерброд, сел на травертинский автобус и поехал на пляж. Он разделся за дюной и был разочарован, увидев, что миссис Старджис и миссис Гейтс собираются приятно провести время там, где он сам хотел поплавать и погреться на солнце. Он был разочарован также тем, что вид этих старых дам, рассуждавших о консервах и о неблагодарности своих невесток, будет портить ему настроение, между тем как прибой громким голосом говорил о кораблекрушениях и путешествиях и о сходстве всего сущего, потому что у дохлой рыбы были такие же полосы, как у кошки, а на небе были такие же полосы, как на рыбе, и у раковины был такой же завиток, как в человеческом ухе, и берег был в таких же складках, как собачья морда, и приносимые волнами камни в полосе прибоя разбивались и рушились с таким же шумом, как стены Иерихона. Он брел по воде, пока она не дошла ему до колен, потом намочил запястья и лоб, чтобы подготовить кровообращение к шоку от холодной воды и тем избежать сердечного приступа. Издали казалось, что он перекрестился. Затем он поплыл на боку, погрузив лицо до половины в воду и выбрасывая правую руку, как крыло ветряной мельницы, - и больше его не видели.
37
Так, вернувшись домой, чтобы подарить Лиэндеру пароход, его сыновья услышали молитву, произносимую за упокой тех, кто утонул в море. Мозес и Каверли приехали в автомобиле из Нью-Йорка без жен и добрались до поселка поздним утром в день похорон. Сара заплакала лишь тогда, когда увидела сыновей и простерла к ним руки, чтобы они ее поцеловали; отношение жителей поселка и их разговоры помогали ей держаться.
- Мы прожили вместе так долго, - сказала она.
Они сидели в гостиной и пили виски, когда пришла Гонора, поцеловала племянников и тоже выпила.
- Мне кажется, вы делаете большую ошибку, устраивая службу в церкви, сказала она Саре. - Все его друзья умерли. Кроме нас, никого не будет. Лучше было бы устроить ее здесь. И еще одно. Он хотел, чтобы над его могилой произнесли монолог Просперо. Я думаю, вам, мальчики, надо бы пойти в церковь и поговорить со священником. Поговорите с ним, нельзя ли, чтобы служба происходила в маленькой часовне, и скажите ему относительно монолога.
Мозес и Каверли поехали в церковь Христа Спасителя и вошли в контору, где священник пытался работать на арифмометре. Он казался недовольным той незначительной помощью, какую божественное провидение оказывало ему в практических делах. Просьбы Гоноры он вежливо, но твердо отверг. Часовню красили, и ею нельзя было пользоваться, и он не мог одобрить привлечение Шекспира к церковной службе. Гонора была разочарована, услышав о часовне. Ее горе как бы вылилось в тревогу по поводу пустой церкви.
В этот день она с ее осунувшимся львиным лицом казалась старой и растерянной. Она взяла ножницы я пошла в поле срезать цветы для Лиэндера васильки, лютики и маргаритки. В течение всего ленча она беспокоилась по поводу пустой церкви. Подымаясь по церковным ступеням, она оперлась на руку Каверли - она вцепилась в нее, словно чувствовала себя усталой или больной, - а когда двери открылись и она увидела толпу, она остановилась как вкопанная на пороге и громко спросила: