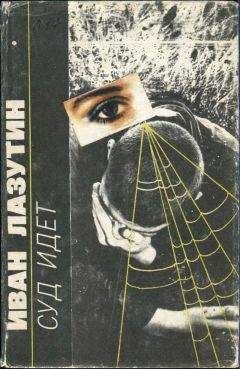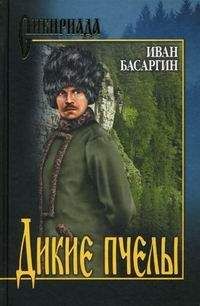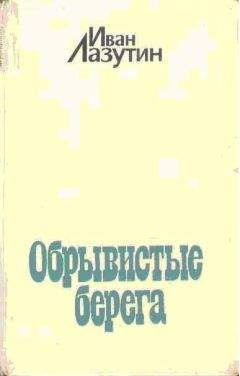Я никак не могу согласиться с тем, что звание Героев Советского Союза у нас присваивают только счастливчикам, кому довелось остаться в живых, или тем, кто свой подвиг совершил на виду у всех, отдав за него жизнь в наступательном бою. А разве мало героев безымянными погибли в обороне? Отступление, плен, окружение в нашей армии считается позорным делом. Наш командир попал с полком в окружение. И вряд ли жене его и сыну прислали письмо из штаба, в котором сообщили, что их муж и отец в боях за Родину пал смертью храбрых. Он погиб как герой, но числится в списках без вести пропавших во вражеском окружении.
Я уверена, что придет время, когда имена этих безымянных героев, которые остались лежать «за той чертой», будут высечены золотыми буквами на черном граните вечных постаментов. О подвигах, вовремя не замеченных, Родина вспомнит и оценит их.
О том, как через два дня мы стали уже военнопленными, мне страшно вспоминать. Из всего того мерзкого и ужасного, что пришлось пережить, я запомню только одно: вы, пленные мужчины, относились ко мне, единственной среди всех уцелевших из полка женщин, как святые, как подвижники. Я это помню и память эту унесу с собой в могилу. По глупой традиции почему-то принято считать, что русский мужчина самый некорректный в отношении к женщине. Хвалят за эти добродетели лощеных французов! Ерунда! Все это салонная фальшь! Наш русский мужчина не умеет перед женщиной расшаркиваться в поклонах и целовать ей руки. Но случись, что эту женщину обидели, что ей угрожает беда, тот самый невоспитанный по этикету рязанский мужик пойдет на нож и грудью своей заслонит от пули свою соотечественницу.
До пересыльного пункта вы несли меня на руках. Почему тогда меня не пристрелили конвойные, я и сейчас никак не могу понять. Может быть, потому, что был секретный приказ гитлеровского интендантства о том, чтобы русских женщин с красивыми светлыми косами по дороге не убивать. Таких женщин было приказано доставлять живыми до пересыльных пунктов, где их тут же стригли и, если была нужда, пускали в расход.
Больше всех досталось тебе, мой дорогой военврач Струмилин. И тяжело раненый, ты ни на минуту не забывал обо мне. Ведь я знаю, что первое слово, которое ты произнес, когда пришел в сознание, — было мое имя. И ты еще иногда ругаешься на меня, когда я не нахожу себе места, если ты заболеешь или долго не возвращаешься с работы. О ком же мне заботиться? Кого же мне любить, как не тебя и нашу маленькую дочурку? Вот и сейчас, пишу эти строки, а сама думаю: как ты сейчас поживаешь там, в Одессе? Я боюсь, чтоб ты далеко не заплывал в море. Чего доброго — сведет судорогой ногу, и тогда… Мне даже страшно об этом подумать!
А иногда я подолгу лежу в бессоннице и до того забью себе голову всякими дурными мыслями, что по целым ночам не могу заснуть. То мне представится, что на тебя напали одесские жулики, то кажется, что ты разлюбил меня и встретил там молодую и красивую девушку и танцуешь с ней вальс. А она, грациозная и легкая, как пушинка, кружится и улыбается тебе, улыбается и кружится. Ты тоже счастлив с ней и тоже улыбаешься. В такие минуты я начинаю плакать, и мне становится невыносимо больно.
С сегодняшнего дня я решила вести дневник. Вот и сейчас записала четыре страницы и так устала, как будто на мне возили воду. И вместе с тем как-то легче стало на душе, точно я досыта наговорилась с тобой, мой дорогой, мой бывший военврач сто семнадцатого кавалерийского полка, гвардии капитан Струмилин.
Все эти дни в Москве стоит ужасная духота. Панорама, расстилающаяся под моими окнами, совсем больничная: поникшие под нестерпимым солнцем деревья, обсыпанные жухлым, нагретым песком дорожки и застиранные полосатые пижамы больных. Лучом света в этом больничном царстве являешься ты и твой черноморский отдых. Мне очень хочется, чтобы ты хоть раз в жизни по-настоящему загорел, чуточку потолстел и научился чаще улыбаться. Завтра я напишу тебе оптимистическое письмо и непременно солгу в главном пункте: мое здоровье.
Врачам болеть гораздо труднее, чем медицински необразованным людям: те даже перед смертью верят и ждут от нас, врачей, исцеления. Иногда бывают и чудеса: некоторых все же удается спасти. А нам, грешным эскулапам, никто не зажжет заветных туманных огоньков надежды, когда картина насквозь ясна. И все-таки завтра в письме я буду тебе лгать и доказывать, что моей ноге ничего не угрожает, что моя гипертония была временна, что я уже подумываю, как бы скорее выписаться и что-нибудь предпринимать насчет работы. Сидеть целыми днями сиднем в кровати становится невыносимым. Давать письменные шаблонные ответы радиослушателям — тоже навязло в зубах. Хочется работать с живыми людьми, видеть скорбные, молящие глаза больных, которые смотрят на тебя и безмолвно говорят: «Доктор, помоги, спаси…» Если верховный главнокомандующий во время опасных боев чувствует такую же ответственность и напряжение, как лечащий врач, когда он входит в палату тяжелобольных, то он знает наверняка, что такое ответственность и что такое отвечать за судьбы людей. Ловлю себя на одной мысли: все сравнения и аналогии я почему-то привыкла строить в одном плане: война, сражения, командир, солдат… Это, очевидно, потому, что самой болезненной и самой чувствительной частицей сердца я срослась с моим фронтовым прошлым.
Перечитала свою первую дневниковую запись и поняла, что у твоей жены никакой логики мышления нет. Какие-то обрывки мыслей, вздохи, ахи и охи… Оправдывает только одно: пишу то, что приходит на ум, что стучится в сердце. Озабочена только одним: чтоб когда-нибудь эти строки не навели на тебя уныние.
Каждую ночь мне снишься ты и Танюшка. Три дня назад приходила мама — обещала в следующее воскресенье прийти.
Дежурная сестра уже дважды тушила свет в моей палате: давно пора спать. Вот и сейчас снова слышу чьи-то легкие шаги в коридоре. Если это дежурный врач, то мне непременно влетит. Итак, милый, спокойной ночи. Тянусь уставшей правой рукой к выключателю».
На этом первая запись в дневнике обрывалась. Струмилин отодвинул тетрадь в тень от колпака настольной " лампы и подошел к кровати. Разметав руки, Лена спала. Выражение ее лица было таким, точно она собиралась сказать: «Если б я смогла хоть в сотой доле рассказать в этом дневнике, как я люблю тебя и как ты мне дорог!..»
Таня, запрокинув свое румяное личико, уткнулась носом под мышку матери и правую ручонку положила ей на грудь. Одеяло сползло до пояса.
Струмилин долго стоял над спящими.
Вздох жены испугал его, и он на цыпочках отошел к столу. Сонно чмокая губами, Лена перевернулась на другой бок, и снова послышалось ее ровное дыхание.
Струмилин загородил дневник спиной и принялся читать дальше. Эшелон военнопленных, гамбургские страдания, издевательства фашистов, два его побега, освобождение Советской Армией, снова возвращение в строй — все это с изумительной четкостью вставало перед его глазами.
Настенные часы пробили два раза. В соседних домах потухли огни. Струмилин никак не мог оторваться от тетради в клеенчатой обложке. Только теперь перед ним во всей своей полноте и неизмеримой глубине открывались те грани характера жены, о которых он раньше только догадывался, а если замечал их, то не ценил.
Последняя запись оборвалась неожиданно, она испугала Струмилина. Лена писала:
«Двадцатого сентября. На всех перекрестках и переулках, где растут деревья, прибили таблички с надписью: «Листопад. Берегись юза». Вот уже и осень наступила. Может быть, эта осень будет последней в моей жизни. Об этом я думаю как врач, а не как больной. Давление растет. Приступы боли в ноге все учащаются. Коля даже не знает, что я живу на одном морфии. Я делаю уколы тайком от него, чтоб он не знал о приближении конца. Пусть моя лебединая песня будет пропета для него совсем неожиданно.
Бедняга, он так много работает, у него две ставки, приходит домой всегда усталый, носится по магазинам, часами простаивает в очередях, готовит обед, сам купает Танечку, ухаживает, как нянька, за мной… Последние дни я больше думаю не о себе, а о нем, о дочурке. Как он переживет мой уход?! Он это чувствует и понимает, как медик, но на что-то надеется и гонит от себя страшные мысли. Я это вижу. Как два актера, мы фальшиво играем друг перед другом бодрячков и оба осознаем, что лжем в этой игре, успокаивая друг друга. По что делать: иногда и во лжи есть спасительные островки, если эта ложь святая.
Еще мне кажется, что с юга он приехал с каким-то новым настроением. Он словно помолодел духом, временами бывает рассеянный. Таким он давно уже не был. А что, если он познакомился там с какой-нибудь женщиной и делит себя между мной и ею? Это, пожалуй, самое страшное, самое тяжелое, что на меня обрушится в мои последние дни. Умереть я хочу с одной радостной и счастливой верой: он любит только меня одну, такую, какая я есть, — изуродованную, приговоренную, беспомощную…