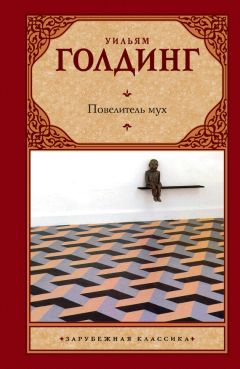– Вам надо уснуть.
– Мне теперь уж никогда не уснуть.
– Пойдемте, отец мой.
– Нет, я буду ждать здесь. Это предопределено, и не все еще кончено.
И он все сидел, глядя, как бесчисленные искры роятся над огнем. Иногда он говорил, но совсем не отцу Адаму:
– И все-таки он стоит.
Потом он начал стонать и раскачиваться. А много времени спустя вскочил и воскликнул:
– Какое кощунство!
Прошли часы, в камине остались лишь угли, и тогда он снова заговорил:
– Есть родство меж людьми, которые хоть раз сидели подле угасающего огня и мерили по нему свою жизнь.
В окна просочился рассвет, бледнея вокруг оплывших свечей. А когда последняя искра в камине угасла, явился посланец. В нем была непоколебимость веры, он мычал и манил за собой. Джослин медленно встал.
– Отец мой, вы позволите мне пойти?
Страж тихонько покачал головой.
– Мы пойдем вместе.
Джослин потупился и уже не поднимал глаз, пока они под затихающими порывами ветра шли к дверям собора. В нефе все было без перемен, и Джослин сказал немому, не глядя ему в лицо:
– Покажи нам, сын мой.
Немой, осторожно ступая на носках, повел их к юго-восточной опоре, показал небольшое отверстие, которое пробил в ней, и так же на носках ушел. Джослин понял, что он должен сделать. Он вытащил из отверстия треугольное долото, взял с пола железный щуп и всадил его в опору. Щуп уходил все глубже, глубже и со скрежетом пронзил каменную труху, которую исполины, жившие на земле в далекие времена, засыпали в опору.
И тут все слилось. Его душа ринулась вниз, в бездну, которая была внутри его, – туда, в бездну, отвергни или прими, уничтожь меня, обрати в камень вместе с остальными; в тот же миг тело его тоже ринулось вниз, и он коленями, лицом, грудью рухнул на камни.
И тогда его ангел простер крыла, которыми закрывал свои раздвоенные копыта, и вытянул его по всей спине раскаленным добела цепом. Жгучий огонь опалил ему хребет, и он вскрикнул, потому что не мог этого вынести и все же знал, что должен вынести. А потом чьи-то неловкие руки пытались его поднять, но он не мог сказать им про цеп, потому что всем телом обвился вокруг опор, как раздавленная змея. Тело кричало, руки силились поднять его, а Джослин лежал внизу под каменной грудой и знал теперь, что по крайней мере одна истовая молитва услышана.
Когда боль схлынула, он почувствовал, что его бережно уносят от жертвенника. Он лежал на спине, которой у него не было, и ждал. Ангел с цепом не в силах был сделать большего; нет, большего не могло принять тело, как ни жаждала этого душа. И теперь спины просто не было, пришло совершенное бесчувствие.
Его положили на кровать в спальне, и он видел над собой каменные ребра потолка. Иногда ангел покидал его, и он обретал способность думать.
«Я отдал спину великому делу.
Ему.
Ей.
Тебе, Господи».
Иногда он шептал с досадой:
– Неужели рухнул?
Человек, похожий на деревянную куклу, успокаивал его:
– Нет еще.
В один из дней голова его несколько прояснилась и пришла мысль:
– Сильно ли он поврежден?
– Я помогу вам сесть, отец мой, и вы сами увидите в окно.
Он завертел головой на подушке.
– Не хочу на него смотреть.
Стало темней, и Джослин понял, что отец Адам подошел к окну.
– На первый взгляд кажется, будто он невредим. Но он слегка накренился и угрожает аркадам. Он развалил парапет башни. Много камня разбито.
Он полежал тихо. Потом пробормотал:
– Когда снова поднимется ветер… Когда поднимется ветер…
Деревянная кукла подошла, склонилась над ним и тихо заговорила. Вблизи было видно, что у нее есть некое подобие лица.
– Не надо так тревожиться, отец мой. Конечно, вред немалый, но вы, хоть и заблуждались, строили с верой. Ваш грех невелик в сравнении с прочими грехами. Вся жизнь наша – шаткое здание.
Джослин снова завертел головой на подушке.
– Что вы знаете, отец Безликий? Вы видите только наружность вещей. Нет, вы не знаете и десятой доли.
И тут карающий ангел, который, наверное, стоял рядом с отцом Адамом, ударил снова. Когда Джослин пришел в себя, отец Адам по-прежнему был подле него и говорил так, словно никто их не прерывал:
– Вспомни о своей вере, сын мой.
«Моя вера, – подумал Джослин. – Что она такое?» Но он не сказал этого лицу, черты которого могли когда-нибудь проясниться. Он только глотнул воздуху и засмеялся.
– Хотите, я покажу вам свою веру? Она у меня здесь, в старом сундуке. Маленькая книжечка в левом углу. – Он помолчал, перевел дух и засмеялся снова. – Возьмите. Прочитайте.
Послышался шорох, шелестение, стукнула крышка. Потом отец Адам заслонил окно и спросил:
– Вслух?
– Вслух.
«Чернила, наверное, поблекли, – подумал он. – Ансельм тогда был еще молодой, а Роджер Каменщик – совсем мальчишка. А она… И я был молодой или по крайней мере моложе».
В вечерних сумерках заскрипел голос отца Адама:
– «К тому времени я уже три года исполнял это служение, и однажды вечером я стоял на коленях у себя в молельне и изо всех своих слабых сил молил Бога избавить меня от гордыни. Потому что я был молод и преисполнен чудовищной гордыни, ослепленный блеском своего храма. Одна лишь гордыня и была во мне…»
– Это правда.
– «Мне было явлено беспредельное милосердие. В своем ничтожестве я стремился, сколько мог, возвыситься духом. Я пожелал воочию увидеть храм непреложно стоящим на моем пути; и это было тем легче, что его стены были видны мне через окно…»
Джослин уже снова вертел головой на подушке. Он думал: «Что это объясняет? Ничего! Ничего!»
– Неужели ничего?
– «Я видел очертания крыши, стен, выступы трансептов, башенки, которые выстроились вдоль парапетов…»
– Неужели это ничего не означало, отец мой?
– «Теперь я знаю, кто и зачем направил туда мой взгляд. Но в то время я еще ничего не знал, я мог только стоять на коленях и смотреть, пока не исполнился равнодушия к тому, что видел. И вдруг сердце мое дрогнуло; должно быть, в нем поднялось некое чувство. Оно крепло, устремлялось все выше и у вершины вспыхнуло животворным огнем…»
– Это правда… верьте мне!
– «…и вдруг исчезло, а я остался, пригвожденный к месту. Потому что в синеве неба я увидел ближнюю башенку; это было истинное воплощение моей молитвы в камне. Оно вознеслось над хитросплетением суетных мыслей, и с ним вознеслось сердце, ввысь, все тоньше, острее, и на самой вершине вспыхнуло пламя, изваянное из камня, которое я только что созерцал».
– Да, так и было. Вам стоит только обернуться, и вы увидите ту башенку.
– «Дети мои, если уже это поразило мой скудный ум, то как описать чудо, которое свершилось вслед за тем? Я смотрел и все более прозревал. Словно эта башенка открыла передо мной огромную книгу. Словно я обрел вдруг новый слух и новое зрение. Весь храм – а я-то в безумии своей молодости хулил его за то, что он порождал во мне гордыню! – весь храм открылся мне. Весь он заговорил. «Мы труд», – говорили стены. Стрельчатые окна складывали ладони и пели: «Мы молитва». А треугольник крыши словно Троица… Но как это объяснить? Я хотел отречься от своего дома, но он возвратился мне тысячекратно».
– Воистину так.
– «Я бросился к дверям и вбежал в собор. А теперь я хочу, чтобы вы поняли меня до конца. Собор предстал передо мной в образе человека, возносящего молитву. А изнутри он был великолепной книгой, в которой начертано наставление для этого человека. Помню, уже наступил зимний вечер и в нефе темнело. Патриархи и святые сияли в окнах; и на всех алтарях в боковых нефах горели свечи, возженные вами. Еще пахло ладаном, и в часовнях звучали голоса священников, служивших мессу… но это вы знаете сами! Я шел вперед – или нет, меня вел мой ликующий дух, и ликование росло с каждым шагом, и я был исполнен твердости и самоотречения. Когда я дошел до опор, мне оставалось лишь пасть на лицо свое…»
– У этих самых опор. Сколько раз с того дня я падал там ниц.
– «Потому что я как бы слился воедино с мудрыми и святыми… или нет – со святыми и мудрыми строителями…»
– Опоры гнутся!
– «Мне стал понятен их тайный язык, такой ясный, видимый всякому, имеющему глаза, чтобы видеть. В тот миг Его поучение о небе и аде лежало передо мной, и я понял то ничтожное место, которое отведено мне Его промыслом. Сердце мое снова устремилось ввысь и воздвигло во мне храм – стены, башенки, покатую крышу – во всей истинности и непреложности; и в этом новообретенном смирении и новообретенном знании во мне забил источник – вверх, в стороны, ввысь, сквозь внепространство, – пламенный, светлый, всеподчиняющий, непреоборимый (да и кто мог, кто посмел бы ему противоборствовать?), беспощадный, неудержимый, пылающий источник духа, безумное мое горение во имя Твое…»