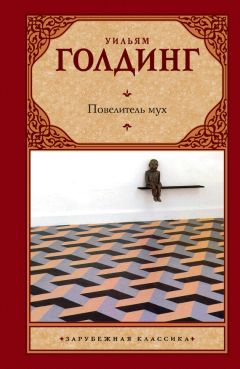– О Господи!
– «А вверху, если только слово «верх» может что-нибудь тут значить, был некий образ, некий дар, в обладании которым несть гордыни. Тело мое покоилось на камнях, мягких как пух, и вмиг, во мгновение ока, оно преобразилось, воскресло, отринуло всяческую суету. Потом видение исчезло, но воспоминание о нем, которое было для меня подобно манне, обрело плоть, оно воплотилось в шпиль, в сердце каменной книги, в ее венец, в вершину молитвы!»
– А теперь это уродливая развалина. Ничего похожего… Ничего.
– «Наконец я встал. Свечи горели по-прежнему и ничуть не стали короче, священники служили мессу – ведь по жалкой людской мере протек лишь единый миг. Я шел через неф, и образ храма стоял у меня перед глазами. И вот что я скажу вам, дети мои. Духовное трижды вещественней земного! Только на полпути к своему дому я понял истинный смысл видения. Когда я обернулся, чтобы осенить себя крестом, я вдруг увидел, что собору чего-то не хватает. Он стоял, как всегда, но вершины молитвы, устремленной ввысь из его сердца, если говорить на языке вещей, не было вовсе. И в тот миг мне открылось, зачем Бог привел меня сюда, своего недостойного служителя…»
Скрипучий голос умолк. Джослин слышал, как отец Адам перелистывал чистые страницы. Потом стало тихо. Он закрыл глаза и в изнеможении провел рукой по лбу.
– Да, это мои слова. Когда я пал ниц и принес себя в жертву делу, я думал, что принести в жертву себя – то же самое, что принести в жертву все. Я был глуп.
Отец Адам заговорил снова. Теперь в его голосе появилось что-то новое, в нем звучало удивление и беспокойство.
– И только?
– Я считал себя избранником, сосудом духа и главное – любви, я верил в свое предназначение.
– А за этим неизбежно последовало все остальное – долги, запустение в храме, раздоры?
– И еще многое, очень многое. Вы даже не знаете. И сам я не знаю. Криводушие, нечистая совесть. Во имя дела. И в него вплелась золотая нить… Или нет. Из него произросло древо со странными цветами и плодами, со множеством побегов, цепкое, хищное, вредоносное, пагубное.
И он сразу увидел это древо, буйство листвы и цветов, перезрелый, лопнувший плод. Невозможно было проследить все сплетение его побегов до корня, освободить искаженные страданием лики, которые кричали из путаницы ветвей; он вскрикнул сам и умолк. Он лежал, оберегая спину, стараясь унять боль, которая проснулась во лбу, и неотрывно смотрел на каменное ребро потолка. Только одна мысль была у него, странная мысль:
«Я здесь, но здесь – это значит всюду и нигде».
Когда отец Адам снова заговорил, голос его уже не скрипел. Слова падали, как мелкие камни.
– Стало быть, это все.
Он отошел от окна, и в комнате стало светлее. Он приблизился к кровати и задал непонятный вопрос:
– А можете вы увидеть то, что слышите?
Джослин был нигде, он вертел головой, налитой болью, словно хотел ее стряхнуть. За окном раздались шаги, кто-то весело засвистел, выводя затейливые трели. И он смутно увидел, как этот свист, который звучал у него в голове, исчез за углом.
– Не все ли равно?
– Значит, вы ничему не научились? Раньше, много лет назад?
«Чему я научился? Орел слетел ко мне у моря. И этого было довольно. А потом…»
– Вы слышали, что она сказала. И теперь знаете, как все вышло.
Отец Адам горячо прошептал:
– Лучше было бы повесить им жернов на шею.
«Ну нет, – подумал он. – Слишком это просто, этим ничего не объяснишь. Так не добраться до корня».
А отец Адам сказал с нескрываемым удивлением:
– Значит, вас никогда не учили молиться?!
Волосы разметаны веянием духа. Рот раскрыт, но не дождевая вода изливается из него, а осанна. Джослин криво улыбнулся священнику:
– Теперь уже поздно.
Но отец Адам не улыбнулся. Он стоял боком, стиснув руки у груди. Он смотрел сверху вниз, искоса, и под взъерошенными волосами угадывались черты его лица. В голосе его зазвучал страх, словно он наконец увидел древо и цепкий усик скользнул по его щеке.
– Ваш духовник…
– Ансельм?..
«Опять Ансельм, – подумал он. – Получается, что он ни к чему не причастен. Ведь я скрепил все своей печатью». Он сказал в ребристый потолок:
– Послушайте меня, отец Адам. Я догадываюсь о многом, и я любил их всех. Наверное, оттого она и преследует меня. Вы неизмеримо лучше их всех, потому что таких страшных, таких окаянных людей не найти больше нигде, но ведь вы не со мной, вы не запутались, как я, в ветвях древа. Колдовство. Конечно же, это колдовство. Как иначе могли бы она и он быть такой непреодолимой преградой между мною и небом?
Дыхание послышалось над самым его ухом. Он отвел глаза от потолка, от картин прошлого, и увидел, что отец Адам стоит у кровати на коленях. Священник закрыл лицо руками и дрожал всем телом. И слова тоже дрожали меж пальцами, вырывались прерывистым бормотанием:
– Господи, смилуйся надо всеми нами!
Он быстро отнял руки от лица и перекрестился. Потом стиснул край кровати, склонил голову и снова забормотал. Бормотание стало глуше, потом смолкло.
Отец Адам поднял голову. Он улыбался. Джослин сразу увидел, какое это было заблуждение – думать, что у него нет лица. Просто оно было очерчено тонкими, нежными штрихами, которые так легко ускользают от глаза и видны лишь долгому, пристальному взгляду или подневольному взору больного, прикованного к постели.
И неожиданно для себя он крикнул этому лицу:
– Помоги мне!
Эти слова как будто отомкнули замок. Он почувствовал, что дрожит, как дрожал отец Адам. Дрожь отдалась болью в спине и голове, но зато безбрежное море скорби словно простерло мягкую руку, накрыло его и обильно увлажнило глаза. Он дал слезам излиться, не замечая их, потому что это было так ничтожно в сравнении с морем. А потом появилась другая рука, она легла ему на грудь, пальцы сжали плечо. И еще рука ласково гладила его по лицу.
Понемногу дрожь унялась, слезы уже не текли больше. И голос, такой же нежный, как лицо, зашептал:
– Мы начнем сначала. Некогда вам была знакома каждая ступень молитвы, но вы все забыли. И это хорошо. Многие из ступеней не для простых смертных. Это даже вменится вам в заслугу. Низшую ступень составляет словесная молитва. С нее мы и начнем, потому что оба мы подобны детям, а дети начинают с этого…
– А моя молитва, отец? Мое… видение?
Стало тихо. «Черный ангел возвращается, – подумал он. – Я знаю, чувствую его приближение. Скорей, скорей, пока не поздно!»
– А моя молитва? Мой шпиль? То, о чем вы прочли?
Теперь влага выступила у него на коже. Он почувствовал, как рука осторожно откинула волосы с его лба, но он был объят ужасом перед ангелом.
– Скорей!
– За словесной молитвой следует другая ступень, она невысока, и потому восхождение едва заметно. Здесь нам дается поддержка, утешение, отрада. Так мы даем ребенку лакомство за послушание или просто потому, что любим его. Ваша молитва, без сомнения, была хороша, но не очень.
Он вертел головой, пытаясь уйти от неотвратимого. Но из глубины, должно быть от самых корней древа, что-то властно заставило его крикнуть в каменный потолок и в нежное, встревоженное лицо:
– Мой шпиль вознесся превыше всех ступеней, от земли до небес!
И черный ангел ударил его.
Иногда боль стихала, и он снова мог думать. Первым делом он спрашивал у отца Адама:
– Еще не рухнул?
И ответ был всегда один:
– Нет еще, сын мой.
Он снова строил шпиль у себя в голове, доискивался, какой нужен фундамент, чтобы понять, что же ему самому нужно.
– Мне не узнать правды, пока весь собор не разберут, как детскую головоломку.
Но отец Адам, наверное, думал, что он бредит, и молчал. А Джослин, следуя по этой дороге внутри себя, добрался до второй мысли:
– И даже тогда не узнать.
Один раз он послал за Ансельмом и ждал бесконечно долго, глядя в темный потолок, а потом вспомнил, кем он теперь стал. Тогда он послал снова, умоляя Ансельма прийти во имя милосердия. Ансельм пришел, строгий и отчужденный. Вечерело, в комнате уже стояли сумерки, потому что единственное окно выходило на восток и собор заслонял свет. Он услышал, как отец Адам вышел и спустился по лестнице, услышал, как заскрипел под Ансельмом стул. И тогда он посмотрел на него, на его благородную голову, на серебристые волосы над твердым лбом. Но Ансельм не ответил на его взгляд. Он упорно смотрел в окно и молчал.
– Ансельм. Вот я в пустыне.
Ансельм искоса посмотрел на него и сразу же отвел глаза, словно увидел нечто постыдное. Он сказал то, чего и следовало ожидать, но слова его были сухи и так же отчужденны, как его поза.
– Рано или поздно это удел всякого…
«Нет, – подумал Джослин. – Так не говорят с живыми людьми. Он просто не видит меня. Меня нет среди живых, но пусть и это послужит мне уроком…»