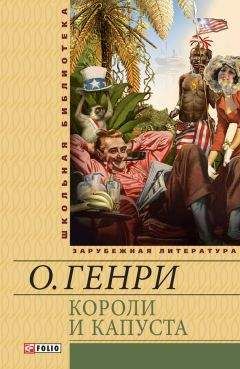Когда в этот вечер Гедди поцеловал Паулу у дверей ее дома, он был так счастлив, как не бывал никогда прежде. «В краю, где растет лишь лотос, и жить и умереть»[33] – это казалось ему, как и многим другим морякам, потерпевшим крушение, самым лучшим и самым простым выходом. Его будущее казалось идеальным. Ему достался настоящий рай! Нет, его рай был даже лучше настоящего, потому что здесь не было змия! Его Ева будет по-настоящему частью его самого, несоблазненная, и оттого еще более соблазнительная. Сегодня вечером он принял решение, и его сердце переполняли безмятежный покой и глубокое удовлетворение.
По дороге домой Гедди насвистывал «La Golondvina»[34] – самую прекрасную и одновременно самую грустную из всех песен, написанных о любви. Когда он вошел, со своего излюбленного места на книжной полке к нему спрыгнула его ручная обезьянка, оживленно болтая на своем обезьяньем языке. Консул направился к столу, чтобы взять немного орешков для своей любимицы. Вдруг его рука, шарившая в полутьме, задела бутылку. Он вздрогнул, как если бы он дотронулся до змеи.
Гедди совсем забыл, что там стоит эта бутылка.
Он зажег лампу и покормил обезьянку. Затем, очень медленно, консул раскурил сигару, взял бутылку и стал спускаться к берегу.
Светила луна, и море отражало звезды. Как это всегда бывает, направление ветра вечером переменилось, и теперь он упрямо дул в сторону моря.
Подойдя к самому краю воды, Гедди зашвырнул так и не распечатанную им бутылку далеко в море. На секунду она скрылась под водой, а потом выпрыгнула из воды высоко вверх. Он стоял неподвижно, наблюдая за ней. Лунный свет был настолько ярок, что Гедди мог хорошо видеть, как она качается на волнах, то вверх, то вниз. Она медленно удалялась от берега, поблескивая в лунном свете. Ветер нес ее в открытое море. Скоро она превратилась в небольшое пятнышко, которое можно было различить уже лишь время от времени, а затем тайну этой маленькой бутылки поглотила тайна огромного океана. Гедди неподвижно стоял на берегу, курил и смотрел в морскую даль.
– Симон! Эй, Симон! Вставай, Симон! – раздался чей-то звучный голос со стороны моря.
Старый Симон Круз, бывший наполовину рыбаком, а наполовину – контрабандистом, жил в небольшой хибарке на самом берегу моря. Он только что уснул, и тут его разбудили таким неделикатным образом.
Он надел свои туфли и вышел. С причалившей к берегу шлюпки высаживались на берег третий помощник капитана «Валгаллы» – приятель Симона, и трое матросов.
– Беги в город, Симон, – закричал помощник капитана, – немедленно разыщи и приведи сюда доктора Грегга, или мистера Гудвина, или кого-то еще из друзей мистера Гедди.
– Святые угодники! – сонно произнес Симон, – не случилось ли чего с мистером Гедди?
– Он там, под брезентом, – сказал помощник капитана, показывая на шлюпку, – он, можно сказать, наполовину утонул. Я бы даже сказал, больше чем наполовину. Когда мы заметили его с «Валгаллы», он был уже почти в миле от берега – греб как безумный за какой-то бутылкой, которую ветром относило в море. Мы спустили на воду гичку и поплыли его спасать. Он уже почти догнал эту бутылку, но тут силы оставили его, и он ушел под воду. Мы вытащили его в самый последний момент, спасли… может быть, но вообще это доктору решать – жив он или нет.
– А бутылка? – сказал старик, протирая глаза. Он еще не полностью проснулся. – Что с бутылкой?
– Да что ей сделается, – сказал помощник капитана, – плывет себе где-то там, – и показал большим пальцем себе за спину, в направлении моря.
– Да не стой ты, Симон, дуй за доктором!
Гудвин и пламенный патриот Савалья предприняли все возможные меры предосторожности, до каких они только смогли додуматься, чтобы помешать бегству президента Мирафлореса и его спутницы. В Солитас и Аласан были отправлены надежные гонцы, чтобы предупредить тамошних предводителей либеральной партии о побеге президента и передать им приказ установить патрули на всех подступах к морю, чтобы любой ценой арестовать беглецов, если они там появятся. Когда это было сделано, оставалось лишь перекрыть все пути в районе Коралио и ждать улова. Сети были расставлены как следует. Дорог было так мало, возможности посадки на корабль так ограничены, а два-три пункта, где беглецы могли выйти к побережью, охранялись так тщательно, что было бы действительно странно, если бы сквозь ячейки этой сети проскользнуло так много народной гордости, любви и денег. Хотя президент будет передвигаться максимально скрытно и, без сомнения, предпримет попытку тайно сесть на судно в каком-нибудь укромном месте на побережье.
На четвертый день после получения телеграммы Энглхарта в бухте Коралио бросил якорь норвежский пароход «Карлсефин», зафрахтованный оптовыми торговцами фруктами из Нового Орлеана; о своем прибытии он возвестил тремя гудками корабельной сирены, звук которой напоминал веселое ржание жеребца. «Карлсефин» не принадлежал фруктовой компании «Везувий». Это был такой себе бродяга, время от времени выполнявший случайные перевозки для компании, которая была настолько незначительной, что ее даже нельзя было считать конкурентом «Везувия». Рейсы «Карлсефина» зависели от состояния рынка. Иногда он подолгу курсировал по одному маршруту, доставляя фрукты из Латинской Америки в Новый Орлеан, а то вдруг отправлялся в Мобил, или в Чарлстон, или даже далеко на север – в Нью-Йорк: все его передвижения подчинялись колебаниям спроса и предложения на рынке фруктов.
Гудвин неспешно прогуливался по берегу, где, как обычно, уже собралась небольшая толпа зевак, пришедших поглазеть на пароход. Теперь, когда президент Мирафлорес уже в любой момент мог достигнуть границ брошенного им на произвол судьбы отечества, караульно-дозорную службу требовалось исполнять с чрезвычайной и неусыпной бдительностью. Сейчас любое судно, приближавшееся к анчурийским берегам, следовало рассматривать как потенциальное транспортное средство для беглецов; поэтому дозорные следили даже за шлюпами и легкими рыбацкими плоскодонками, принадлежавшими тем из жителей Коралио, которые кормились от щедрот моря. Гудвин и Савалья, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, рыскали по окрестностям, проверяя, хорошо ли несут службу часовые и нет ли где лазейки, через которую беглецы могли бы ускользнуть.
Таможенные чиновники с важным видом набились в свою лодку и погребли к «Карлсефину». Шлюпка с парохода высадила на берег судового казначея с финансовыми документами и забрала карантинного врача с зеленым зонтиком и медицинским термометром. Затем веселый рой трудолюбивых карибов начал перегружать связки бананов из огромных куч на берегу в шаланды и перевозить их на пароход. Пассажиров на «Карлсефине» не было, поэтому с формальностями вскоре было покончено и местные чиновники удалились. Судовой казначей сообщил, что пароход простоит здесь на якоре лишь до утра, а погрузку фруктов будут производить ночью. Он также сообщил, что «Карлсефин» прибыл из Нью-Йорка, куда он доставил груз апельсинов и кокосовых орехов. С парохода даже спустили несколько собственных шлюпок для ускорения погрузки – капитан хотел как можно быстрее вернуться в Штаты, чтобы воспользоваться благоприятной ситуацией, сложившейся на рынке ввиду некоторого недостатка фруктов.
Около четырех часов дня на горизонте показалось еще одно из тех морских созданий, которые не слишком часто встречаются в здешних водах; оно было из той же породы, что и злополучная «Идалия», – изящная паровая яхта, окрашенная в светло-желтый цвет. Ее очертания резко, как на стальной гравюре, выделялись на фоне ярко-голубого неба. Прекрасная незнакомка остановилась на некотором расстоянии от берега, слегка покачиваясь на волнах, как утка в бочке с дождевой водой. От нее отвалила быстроходная гичка, на веслах которой сидели подтянутые матросы, все в морской форме, что в здешних краях большая редкость. Когда гичка причалила к берегу, на песок из нее выпрыгнул какой-то коренастый человечек.
Незнакомец окинул внимательным взором собравшуюся на берегу довольно пеструю компанию анчурийцев и, кажется, остался ими не вполне удовлетворен, поскольку сразу же направился к стоявшему здесь же Гудвину, англосаксонская внешность которого сразу бросалась в глаза. Гудвин учтиво поздоровался с ним.
В ходе беседы выяснилось, что новоприбывшего господина зовут Смит и что прибыл он на яхте. Право же, довольно скудная биография: яхта – вот она, стоит у всех на виду, да и о том, что фамилия господина именно Смит, догадаться было не так уж трудно. Однако Гудвину, который все же кое-чего повидал в жизни, бросилось в глаза некоторое несоответствие между самим Смитом и его яхтой. У Смита была круглая голова, равнодушное лицо, тяжелый немигающий взгляд и унтер-офицерские усы. И если только он не переоделся перед тем, как сойти на берег, то, значит, палубу порядочного судна оскорблял вид его голубовато-серого котелка, веселенького клетчатого костюма и водевильного галстука. Вид человека, у которого достало средств обзавестись собственной прогулочной яхтой, обычно пребывает в несколько большей гармонии со своим судном.