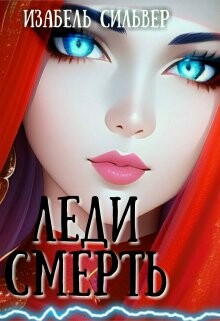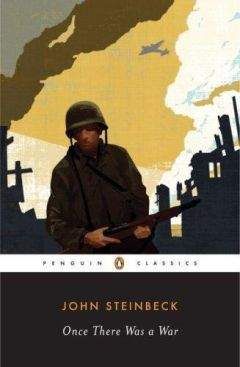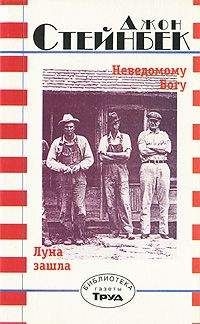он прекращал, снова с готовностью подставляли уши. Томас всегда держал несколько полудиких животных. Не успел он прожить на новом месте и месяца, как, помимо четырех дворняжек, собрал вокруг себя енота, двух койотов-подростков, которые бегали за ним по пятам и рычали на чужаков, целый ящик хорьков и краснохвостого сарыча. Он не проявлял доброты к животным – по крайней мере, больше той, какую они проявляли друг к другу, – но, должно быть, вел себя с понятной им последовательностью, поскольку все существа ему доверяли. Когда одна из собак неосторожно напала на енота и потеряла в схватке глаз, Томас сохранил полную невозмутимость. Выковырял разорванный глаз карманным ножом и прищемил собаке лапу, чтобы та забыла о ране. Томас любил и понимал животных, а если убивал, то не испытывал чувств более глубоких, чем испытывали они сами, убивая друг друга. Природное начало проявлялось в нем слишком определенно, чтобы допустить присутствие сентиментальности. Он ни разу не потерял ни одной коровы, потому что инстинктивно знал, куда та может забрести. Редко охотился, но если выходил из дома с ружьем, то отправлялся прямиком к убежищу зверя и убивал с быстротой и точностью льва.
Томас понимал животных, но вот людей не понимал и не очень им доверял. С людьми ему не о чем было разговаривать; такие вещи, как торговля и вечеринки, религия и политика, его пугали. Когда приходилось присутствовать на многолюдном сборище, Томас Уэйн появлялся и молчал, с нетерпением ожидая освобождения. И только Джозеф внушал брату родственные чувства; с ним Томас мог говорить подолгу и без тени страха.
Женой Томаса была Рама – сильная полногрудая женщина с почти сросшимися на переносице черными бровями. Она неизменно осуждала мысли и поступки мужчин. Опытная, умелая повитуха, она вселяла ужас в озорных детей и, хотя никогда не порола трех маленьких дочек, те боялись вызвать недовольство матери, поскольку она умела найти уязвимое место в душе и нанести точный удар. Рама хорошо понимала Томаса и обращалась с мужем как с прирученным зверем: содержала в чистоте, тепле и сытости и редко пугала. Рама с любовью создавала свой мир: стряпня, шитье, рождение детей, уборка представлялись ей самыми важными делами на свете; намного более важными, чем все, чем занимались мужчины. Не натворив ничего предосудительного, дети обожали Раму, так как она отыскивала и ублажала самые нежные уголки души. Ее похвала могла оказаться столь же тонкой и точной, сколь ужасным бывало наказание. Она сразу принимала под свое крыло всех окружающих детей. Двое детей Бертона ставили авторитет тетушки намного выше непостоянных правил собственной матери: законы Рамы никогда не менялись; зло всегда оставалось злом и получало наказание, в то время как добро обладало вечным, восхитительным благом. В доме Рамы хорошее поведение сулило неоспоримое счастье.
Второго брата, Бертона, природа создала для религиозной жизни. Он боялся и сторонился зла, находя его почти во всяком тесном общении с людьми. Однажды после церковной службы Бертон получил похвалу с кафедры. Когда пастор заявил, что Бертон Уэйн – «человек, сильный в Боге», Томас шепнул Джозефу на ухо:
– Но слабый желудком.
Бертон обнимал жену четыре раза и имел двоих детей. Воздержание было для него естественным состоянием. Он никогда не чувствовал себя хорошо. Бледные впалые щеки выдавали тайное недомогание, а в глазах читалась жажда недостижимого на земле наслаждения. В каком-то смысле слабое здоровье его устраивало, ведь оно доказывало, что Бог думает о нем достаточно, чтобы заставлять страдать. Бертон обладал силой и выдержкой хронического больного: худые руки и ноги были крепки, как канаты.
Женой Бертон управлял сурово – в строгом соответствии с указаниями Священного Писания. Скупо сообщал собственные мысли и решительно укрощал ее чувства, когда те выходили за рамки положенного. Он точно знал, когда жена преступала установленные законы. А когда порою, как время от времени случалось, в сознании Хэрриет что-то ломалось, погружая ее в состояние бреда, Бертон молился возле постели жены до тех пор, пока ее губы вновь не обретали твердость и не переставали что-то невнятно бормотать.
Младший из четырех сыновей Джона Уэйна, Бенджамин, доставлял братьям немало неприятностей своей ненадежностью и распутным поведением. При любой возможности Бенджи напивался до состояния романтического тумана и, радостно распевая, бродил по округе. Выглядел он таким молодым, таким беспомощным и таким потерянным, что многие женщины жалели милого хмельного парня. Поэтому Бенджамин почти постоянно попадал в переделки. Увидев пьяненького сладкоголосого симпатягу с потерянным взглядом, женщины мгновенно уступали желанию прижать его к груди словно малого ребенка, чтобы оградить от ошибок. А потом с удивлением обнаруживали, что ребенок их соблазнил, и не могли понять, как это произошло: ведь он казался таким беспомощным. Бенджамин настолько плохо справлялся с жизнью, что все вокруг старались ему помочь. Молодая жена Дженни неустанно трудилась, чтобы избавить мужа от неприятностей, а когда ночью слышала пенье и понимала, что тот опять пьян, начинала молиться, чтобы он не упал и не разбился. Пение удалялось. Дженни понимала, что до наступления утра какая-нибудь растерянная, испуганная девушка обязательно бросится в объятия Бенджи, и тихо плакала от страха за мужа.
Бенджамин Уэйн жил счастливо и всем вокруг дарил счастье пополам с болью. Он непрестанно лгал, понемногу воровал, жульничал, нарушал обещания и злоупотреблял людской добротой. Однако все его любили, прощали и защищали. Отправившись на запад, братья взяли Бенджи с собой, опасаясь, что, оставшись один, тот погрузится в нищету и голод. Томас и Джозеф следили за порядком на его участке, а сам он занял палатку Джозефа и преспокойно жил в ней до тех пор, пока братья не нашли времени построить ему настоящий дом. Даже Бертон, постоянно бранивший Бенджи, ненавидевший его образ жизни и молившийся за его исправление, не смог стерпеть, что брат прозябает в палатке, и принял участие в работе. Братья не знали, где Бенджи добывает виски; это оставалось тайной. В долине Нуэстра-Сеньора мексиканцы поили симпатичного парня, обучали своим песням, а тот ловко соблазнял их жен, когда они смотрели в другую сторону.
Семьи обосновались вокруг большого дома Джозефа. Братья построили кое-какие скромные лачуги каждый на своей территории, поскольку были обязаны сделать это по закону, однако ни на минуту не задумались о том, чтобы разделить землю на четыре участка. Шестьсот сорок акров составили единый надел, а когда все формальные требования переселения были соблюдены, хозяйство получило название Ранчо Уэйнов. Рядом с большим дубом выросли четыре квадратных дома и просторная общая конюшня